СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ: НЕИЗДАННОЕ И НЕСОБРАННОЕ
 lucas_v_leyden — 30.09.2012
В начале 1930-х годов на одной из медицинских
конференций женщина-психиатр рассказывала собравшимся коллегам о
необычном пациенте. К истории его навязчивых идей и страхов,
подступающего и прячущегося до поры безумия, к живописным
подробностям его фобий и синдромов, прилагался – волею случая –
богатый иллюстративный материал: кропотливо исполненная
генеалогическая таблица, где особой штриховкой были отмечены
носители генов помешательства – один, другой, третий – число их
ощутимо нарастало в том побочном и неветвистом побеге, который был
венчаем нашим героем. Не вполне типичным было то, что сам он был
выведен на сцену – живой картинкой из учебника, несчастным
посмешищем перед синклитом советских душеведов1 . Один
из осматривавших его врачей записал в истории болезни: «Выражение
лица безразличное... Высокий широкоплечий астеник с большим
черепом. Его наружность говорит о сочетании немощи и силы,
физической беспомощности и психической глубинности... Один раз он
рассмеялся громким смехом ребенка с неожиданно высокими нотами. В
этом детском смехе было что-то от насмешки. В беседе с персоналом
он остроумен, склонен к тонкому иронизированию над ними. Сознание
болезни и полная бесперспективность будущего приводят его в
отчаяние» 2 , - это один из последних словесных
портретов, запечатлевших Сергея Михайловича Соловьева,
пятидесятилетнего священника, поэта, философа, мистика –
продолжателя рода, наследника символистских царств.
lucas_v_leyden — 30.09.2012
В начале 1930-х годов на одной из медицинских
конференций женщина-психиатр рассказывала собравшимся коллегам о
необычном пациенте. К истории его навязчивых идей и страхов,
подступающего и прячущегося до поры безумия, к живописным
подробностям его фобий и синдромов, прилагался – волею случая –
богатый иллюстративный материал: кропотливо исполненная
генеалогическая таблица, где особой штриховкой были отмечены
носители генов помешательства – один, другой, третий – число их
ощутимо нарастало в том побочном и неветвистом побеге, который был
венчаем нашим героем. Не вполне типичным было то, что сам он был
выведен на сцену – живой картинкой из учебника, несчастным
посмешищем перед синклитом советских душеведов1 . Один
из осматривавших его врачей записал в истории болезни: «Выражение
лица безразличное... Высокий широкоплечий астеник с большим
черепом. Его наружность говорит о сочетании немощи и силы,
физической беспомощности и психической глубинности... Один раз он
рассмеялся громким смехом ребенка с неожиданно высокими нотами. В
этом детском смехе было что-то от насмешки. В беседе с персоналом
он остроумен, склонен к тонкому иронизированию над ними. Сознание
болезни и полная бесперспективность будущего приводят его в
отчаяние» 2 , - это один из последних словесных
портретов, запечатлевших Сергея Михайловича Соловьева,
пятидесятилетнего священника, поэта, философа, мистика –
продолжателя рода, наследника символистских царств.На посторонний взгляд он всегда производил довольно странное впечатление. Рано повзрослевший (тринадцатилетним выглядел на семнадцать: усы и румянец во всю щеку), приземистый, прожорливый, звонко хохочущий и не к месту грубящий – подавлял ощущением избыточной телесности и несокрушимого здоровья3 . Русский модернизм вообще был делом взрослых людей - вундеркинды не выдерживали (один утонул, другой пустился путешествовать, да так и пространствовал почти сорок лет): разом открывшиеся двери или гул абсолютной истины (тема, которую тридцать лет спустя будет аккуратно распечатывать Набоков) разили наповал обладателей незатвердевшей психики и противостоять им мог только матерый сапиенс. Соловьев таковым не был – скорее наоборот: странности, испокон веку гулявшие по семье, к последним поколениям сошлись уже в концентрациях почти чрезмерных – чудаковатый дядя (философ В. Соловьев), тетушка со странностями (поэтесса П. Соловьева-Allegro4 ); в день смерти отца мать, любившая его беззаветно, набив себе рот акварельными красками, застрелилась. До дня их похорон (одновременно, в двойном гробу) доведены подробные, с витиеватыми, неправдоподобно тщательно прописанными деталями, воспоминания Сергея Соловьева5 – и с этого момента (1903) тьма помешательства уже не отпускала его.
Стихи, составившие ему к середине 1910-х годов негромкую, но уверенную славу, были продолжением его внешности, но не зеркалом его души. Буколики, идиллии, элегии – сухие и строгие упражнения на заданные темы в рассчитанных размерах, заполняли его книги, выходившие с должной регулярностью в лучших символистских издательствах. Недалекий читатель, слегка желая покадить, сложил ему мадригал, тщательно воспроизводящий наружную сторону его дарования:
СЕРГЕЮ СОЛОВЬЕВУ (рондо)
О, Сергей Соловьев! Вами нов
Нам рожок пастушка из полей.
Primavera сломила засов,
И фригийские флейты нежней,
Галилейские песни полней
Зазвучали. Чудесный улов
Запевает из мерных сетей,
Что раскинули нам Вы, Сергей
Соловьев!
Песни родины! Песни о ней!
Чу! Ручей за<�ж?>урчал чародей!
Чу! Затрелили нам соловьев
Из лесов голоса! – Так елей
Льете нам Вы, Сергей
Соловьев! 6
Весь этот очевидный для чужих глаз «пафос благосостояния» (как определил сущность соловьевской поэзии Гумилев7 ) находился в живом и постоянном конфликте с внутренней жизнью поэта. Нервный, чуткий, склонный к поискам особого значения, завидный8 , но нестойкий союзник, журнальный грубиян, всегда готовый раскаяться напропалую («я написал о Вас по приказу то, что, буквально продиктовали мне» 9 etc); бесконечно задиристый и готовый к обидам – он все время находился в непрерывном ожесточении, не прекращая необъявленной борьбы. Вот типичная, взятая на выборку реляция с поля боя:
«Был вечер Владимира Соловьева в религиозно-философском обществе. Эрн читал про профессора Введэнского и дэмонов. Вячеслав развел что-то гносеологически-педерастическое. Вообще, этот раз он не солоно хлебал в Мусагете. Обвинял меня и Нилендера в «аполлонизме», в трусости перед Дионисом. Впрочем, сказал, что и Гете (sic) был трусом. Оказывается храбры только Барыба и Балаганчик.
Блок не приезжал по болезни; у него ревматизм в шее.
В эстетике я совсем перестал бывать. Там только одни педерасты.
Мусагет идет победно и гордо. Из жидов там бывают только Муни и Рубанович. И этих не мешало бы выставить» 10 .
Практически за каждым изруганным в приведенной цитате именем – сложная история отношений, иногда многолетняя и многослойная, как с Блоком – родственником, ближайшим другом, собратом по мистическим озарениям, - иногда менее продолжительная, но сопоставимо напряженная, как с Вяч. Ивановым11 . Чувствительные эти метания зачастую выходили боком – как в истории, когда запоздалым эхом народничества (но не без резонанса с концептом Мировой Женственности) Соловьев увлекся кухаркой из наследного села – к ожиданному ужасу родственников и творческому оживлению друзей: в рачительном символистском хозяйстве сюжет немедленно пошел в дело, воплотившись в «Серебряном голубе» Белого12 : на тот момент – друга, конфидента и свидетеля.
Судьба закаляла его как оружейник – клинок: погружая в бездны отчаяния (роковая сердечная история, едва не завершившаяся самоубийством13 ), отпуская на волю (недолгий счастливый брак, путешествие в Италию14 ) и вновь зажимая в тисках – война, расставание с женой, горькая нищета беглеца15 . К середине 1910-х он стал религиозен: природная истовость сменила вектор, не утратив накала. В феврале 1916 он рукоположен в сан священника; в 1918 – стал кандидатом богословия. В 1920-м он вошел в общину русских католиков восточного обряда, год спустя – возвратился в лоно православия, но в 1924 окончательно вернулся к католической церкви16 . Стихи его, отодвигаясь на периферию занятий, становились все лучше и лучше – и, окончательно перестав считать себя поэтом, он в полной мере сделался им17 .
Последние его годы были ужасны: участившиеся приступы эсхатологических видений («Я отравил весь мир! Смотри — небо темнеет, с него падают мертвые птицы» 18 etc) все больше сужали мир вокруг него, пока не ограничили его больничной палатой; впрочем, в тогдашней действительности это могло означать спасение от горшей доли (не миновавшей его вполне: в 1931 году он был арестован, но вскоре отправлен на «спецлечение» и выпущен под надзор дочери). С 1936 года он находился в больнице беспрерывно; был эвакуирован с нею в Казань, где и умер 2 марта 1942 года.
Ниже я печатаю девять стихотворений Соловьева, по большей части относящихся к 1920-м годам19 . В качестве иллюстрации – избранная Solowieviana из моего собрания; быв всегда к нему неравнодушен, я старался подбирать его книги и автографы с максимальной полнотой.
==
1 История пересказана Д. С. Усовым в письме Е. Я. Архипову 16 июля 1934 года: Усов Д. «Мы сведены почти на нет…». Т. 2. Письма. Составление, вступительная статья, подготовка текста, комментарии Т. Ф. Нешумовой. М. 2011. С. 636.
2 Цит. по: Смирнов М. Последний Соловьев. Жизнь и творчество поэта и священника Сергея Соловьева // Russian studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. Т. III. 2001. № 4. С. 134 – 135. Цитируемая работа – лучшая из биографий Соловьева, обнародованных на сегодняшний день.
3 См. прежде всего выразительный портрет, оставленный Б. А. Садовским: Садовской Б. А. «Весы» (воспоминания сотрудника). Публикация Р.Л. Щербакова // Минувшее. Исторический альманах. <�Т.> 13. М. 1993. С. 33
4 Много лет спустя, набрасывая свою психопатологическую родословную, он писал о ней: «Младшая сестра Поликсена или Сена была очень странной девочкой. В ней не было почти ничего женского. В лице ее было что-то совсем не русское, а дикое и африканское. Она была богато одарена талантом к музыке, живописи, поэзии. Но выказать себя вполне ей не удалось ни в одном из искусств. Всего больше оригинальность выражалась в пении цыганских романсов. Это дикое начало роднило ее с братом Владимиром, которого отец его шутя называл «печенегом». Веселье сменялось у нее приступами бурной тоски. Всю юность она по летам жила на Кавказе, и дикая природа Кавказа гармонировала с ее страстной душой. Она воспевала в стихах Терек, Дарьял, Арагву. С годами в ней усилилась гордость, коренной недуг Соловьевых. Близость с З. Н. Гиппиус растлевающе подействовала на ее миросозерцание. Она носила жилеты и пиджаки и даже иногда шаровары. Любовь занимает большое место в поэзии Поликсены Соловьевой. Но все ее эротические стихи обращены к женщинам, она иной любви не знала. Это ничего не имело общего с «лесбийской любовью». Раз она высказала мне такую мысль: «Все Соловьевы – глубоко несчастные люди. Они ищут на земле любви, которой найти невозможно. Это искание одних из <�них> выражается в самой высокой форме, у других – в самой низкой и грубой» (РГБ. Ф. 653. Карт. 52. Ед. хр. 6. Л. 1). К началу 20-х годов они уже не общались; ср. в письме П. Соловьевой к В. Вересаеву от 1 января 1923 года относительно материалов В. С. Соловьева: «…Мартынова считает меня наследницей брата, тогда как его единственным наследником является наш племянник, сын брата Михаила, Сергей Михайлович Соловьев, поэт, священник (бывший?). Я не знаю его адреса, но знаю, что он живет в Москве и работает, по-видимому, в литературе» (РГАЛИ. Ф. 1041. Оп. 4. Ед. хр. 393. Л. 6 – 6 об.).
5 Соловьев С.М. Воспоминания. Сост., подг. текста и коммент. С.М. Мисочник, вст. ст. А.В. Лаврова. М. 2003.
6 Стихотворение К. Липскерова 1909 года: РГАЛИ. Ф. 1737. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 50
7 Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М. 1990. С. 105.
8 Ср. в письме З. Гиппиус к А. Белому от 15/28 августа 1906 года // РГБ. Ф. 25. Карт. 14. Ед. хр. 6. Л. 47 об.
9 «А насчет «Скорпиона» еще одно замечание: как обмеривали, как обвешивали его «Весы»! Истинно по-московски! Вес «своих» всегда оказывался огромный, вес чужих — смехотворный. Например, все участники «Знания» — поголовно — назывались в этих «Весах» неизменно «всероссийскими бездарностями». Про меня — я вскоре почел за благо удалиться из этого литературного лабаза, — было однажды сказано так: «Произведения Бунина подобны солдатским сапогам, поставляемым интендантствами, — сапогам с бумажными подошвами». Это написал молодой поэт Сергей Соловьев, который, впрочем, очень скоро сознал всю глупость своего сравнения и вдруг прислал мне письмо: «Простите мне ради Бога мою низость - я написал о Вас по приказу, то, что буквально продиктовали мне…»» (Бунин И. А. Биографические материалы. Воспоминания. Статьи. М. 2008. С. 29).
10 Письмо 18 февраля <1911> года к А. Белому // РГБ. Ф. 25. Карт. 26. Ед. хр. 10. Л. 3. Вячеслав – Вяч. Иванов. Барыба – Городецкий. Балаганчик – Блок.
11 См. любопытное замечание о «невольном двойничестве» Соловьева и Вяч. Иванова: Вишневецкий И. Неизданный мистический цикл С. М. Соловьева // Символ. 1993. № 29. С. 248.
12 Подробнее см.: Лавров А.В. Дарьяльский и Сергей Соловьев: О биографическом подтексте в "Серебряном голубе" Андрея Белого // НЛО. 1994. № 9. С. 93 – 110.
13 См. в недатированном (около 6 ноября 1911 года) письме И. М. Брюсовой к Н. Я. Брюсовой: «Знаете, Надюша, что Сережа Соловьев заболел психически. Доктора признали меланхолию. Началась она довольно бурно. В «происшествиях» вы может прочли, что там-то там студент в припадку умопомешательства хотел броситься в окно, но застрял в оконной раме, его удалось спасти, отделался он лишь порезами рук и головы» (РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 35. Л. 57).
14 Римское их пребывание оставило след в летописях русской диаспоры: «Вячеславу <�Иванову> пришлось пойти в русскую читальню на лекции и там читать об эллинизме и церкви. С. Соловьев [заехавший сюда на] ехавший в Рим со своей молодой женой Тургеневой сестрой жены Белого» (письмо В. Шварсалон к неизвестной // РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 8. Л. 1 об.); ««Еще приезжал С. Соловьев с молодой женой – младшей сестрой Аси Тургеневой, жены А. Белого. Он читал лекцию в Русской читальне об Эллинизме и Церкви» (письмо В. Шварсалон к Е. П. Иолшиной // РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 7. Л. 8; в описи и каталоге – «к неизвестной»).
15 Весной 1918 года он уехал в провинцию – жил в Тамбове, селе Большой Карай Саратовской губернии, г. Балашове (где – тесен мир – встречался с безработным актером, братом покойной возлюбленной Брюсова; в своих письмах к нему тот среди прочего упоминал: «У нас в Балашове одно время изнывал С. М. Соловьев, удивительно светлая личность. Теперь он, кажется, у Вас в Публичной Библиотеке» (письмо С. Сырейщикова к В. Брюсову от 1 июля 1922 года // РГБ. Ф. 386. Карт. 104. Ед. хр. 19. Л. 3).
16 Характерная для него черта: посылая в июле 1921 года рукопись стихотворения бывшей жене, он сделал приписку: «К какой церкви принадлежит автор сих стихов, решить довольно затруднительно» (Шапошников М. Б. Тема античности в творчестве Сергея Соловьева // Античность и культура Серебряного века. М. 2010. С. 275).
17 Первые признаки этого относятся к середине 1910-х годов; ср. дневниковую запись свидетеля: «Диакон Сергей Соловьев, ныне по утверждению З. Гиппиус уже священник, - небезызвестный молодой моск. поэт. <�…> Он часто выступал с клерикальными и ультрапатриот. докладами у нас в Р. Ф. О. Однажды он сказал мне, что от прежней своей литерат. деятельности он «отрекся» <�…>» (запись С. П. Каблукова от 13 марта 1916 года // РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 39. Л. 101). В начале 1920-х годов стихи вернулись: «Пишу очень много стихов, но выступать перед публикой в роли поэта считаю унизительным. Обнажать свою душу, хотя бы в форме стихов, перед Ройзманами, Кусиковыми и пр. - это свыше моих сил. Кстати: что ты носишься с Есениным? По моему, это отвратительный мальчишка» (письмо к А. Белому 19 декабря 1922 года // Опыты. 1953. № 2. С. 187). Ср. замечание в письме С. Дурылину от 4 августа 1928 года: «Должен Вас огорчить: Вы один из немногих, любящих мою поэзию, а поэзия эта отцветает. Ведь поэзия – только один уголок моей души, и потому в известном смысле правы те, кто не считает меня поэтом. Но думаю, что осенние леса и в этом году навеют мне поэму, на этот раз о Св. Сергии. Я чудно прожил месяц в Мураново, хотя не мог вполне отдохнуть, так как дела все время вызывали меня в Москву. В Мураново ощутительно веяние Радонежа, благодати и есть еще веяние строгой музы Евгения Абрамовича» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 810. Л. 3 об.).
18 Соловьева Н. С. Отцом завещанное // Наше наследие. 1993. № 27. С. 64 – 65.
19 Близкого к полноте свода стихотворений Соловьева до настоящего времени не существует. Прижизненные сборник повторены в: Соловьев С. Собрание стихотворений. Сост., подг. текста, прим. В. А. Скрипкиной. Послесловие С. Гардзонио. М. 2007; стихи 20-х годов напечатаны в: Соловьев С. Стихотворения 1917 - 1928 г. М. 1999. См. также: Вишневецкий И. Неизданный мистический цикл С. М. Соловьева // Символ. 1993. № 29. С. 241-254; Соловьев С. Из стихов 1920-х годов. Предисл. И. Вишневецкого. Публ. Н.С. Соловьевой // Знамя. 1994. № 11. С. 138—141; «Диккенсовский цикл» С. М. Соловьева // Тайна Чарльза Диккенса. М. 1990. С. 514—524; Гениева Е. Эти Большие Надежды: О «диккенсовском цикле» С. М. Соловьева // Вышгород. 1999. № 4/5. С. 6—21; Соловьев С. Святой Сергий Радонежский // Вышгород. 1998. № 4. С. 71—77 (неоконченная поэма с послесловием Е. Ю. Гениевой).
==







<1>
То не Феб в прелестной свите
К милой нимфе собрался:
Осаждает дядя Витя
И деревни, и леса.
Он заходит в огороды,
Целый день лежит в стогу,
Дядя Витя – сын природы –
Спит с цветами на лугу.
С диким взором, в панталонах,
Коим скоро сорок лет,
Он бежит в лесах зеленых,
Спрятав деньги за жилет.
С резвой прытью жеребенка
Скачет он через плетень
И зовет: ко мне, Аленка,
И все бабы деревень.
И, принесши в дар Венере
Два тяжелых пятачка,
Направляется к квартере
Многочадного дьячка.
От любви, как зверь, он стонет,
Увидав сей милый дом,
Но его ухватом гонит
Дочь Платона со стыдом.
1916
<2>
ИЗ ПИСЬМА НА ВОЛЫНЬ
Я помню тот осенний день,
Когда я въехал в Коростень,
Там в голубеющих волнах
И на гранитных ступенях
Блестел княгини Ольги след.
Согласно былям древних лет
Вся та прибрежная страна
Купальней Ольги названа.
Тем берег девственен и свеж
И та ж волна, и рощи те ж,
Какие были в дни древлян.
Светало. Утренний туман
Редел и таял. Предо мной
Непроницаемой стеной
Тянулся обнаженный лес
На фоне сумрачных небес.
Мелькали часто там и здесь
Лесные козы. Словно весь
Тот лес зверьем наполнен был.
Так близко тихий лось бродил,
Что только стук моих колес
Его смутил, и меж берез
Он скрылся. Ну же, погоняй!
Доносится собачий лай,
И близок, близок дом родной,
Где я усталою душой
Хочу недельку отдохнуть.
Вот дом и сад. Окончен путь.
............................
Небес померкших бирюза
Уже косой бросала луч.
Тяжелый повернувши ключ,
Мы в храм вошли. Кадильный дым
Еще дышал, а там, за ним
Сиял далеко впереди
С багряной раной на груди,
Латинский, нежный Иисус.
Созданья итальянских муз –
На потолке и на столах,
И на открытых алтарях,
Точа чуть слышный аромат,
Полуувядшие, стоят
Цветы – невинный дар сердец,
И надо всем тройной венец
Тиары папской вознесен...
О, дивный, невозвратный сон!
...........................................
Я дверь костела распахнул,
И подхватил нас дивный гул
Органа, плакавшего с хор.
Я к алтарю подъемлю взор:
Ксендз, в ризе белой и простой,
Стоит пред чашей золотой
Как снег, белеют кружева.
Вновь жертва тайная жива,
И жрец дерзает вознести
Над чашей Бога во плоти.
Орган поет, орган гремит,
Нетленная латынь звенит
И весть доносится до звезд:
Et Verbum caro factum est.
.......................................
1918. Дедово
<3>
ИЗ ПИСЬМА К ЕПИСКОПУ ТРИФОНУ
Сказав «прости» московским негам,
Я путь направил в дальний край,
Где меж холмов, покрытых снегом,
Лежит село Большой Карай.
Здесь край глухой и зарубежный.
<�За> много дней под пылью снежной
Исчез дорог последний след,
И падшей лошади скелет
Один краснел пятном ужасным
И предприятием опасным
Казался путь пустынный мой
Под колкой вьюгой ледяной.
С утра метель шумит и воет,
И валит пешехода с ног,
И снежной пылью ровно кроет
Чуть видные следы дорог.
С какою жалобой унылой,
Как мать над детскою могилой
Метель рыдает в час ночной.
Она, как тяжело больной,
Всю ночь и мечется, и стонет.
Проглянет бледно-мутный день:
Не видно ближних деревень,
И все однообразно тонет
В пространстве сером, где слились
Заборы, горизонт и высь...
..........................................
На тесном жертвеннике рядом
Сверкают дискос и потир.
Пшеницею и виноградом
Опять богат Господний пир
О, что для сердца заповедней,
Чем эти ранние обедни
В святых стенах монастыря,
Когда несмелая заря
Чуть брезжит в окна голубые,
Сияет белый омофор
И запах ладана, просфор,
Вино, сосуды золотые, -
Все, все о тайне говорит,
И сердце радостно горит.
Декабрь 1918
Большой Карай
<4>
ПОСВЯЩЕНИЕ Отцу Мих Серг. сочинения «Евангелие Иоанна, как основание христианского догмата»
Прими мой труд. Над ним я много лет
То радостно, то сумрачно-угрюмо
Провел в тиши. Исполнен твой завет:
Упорная, таинственная дума
Оделась в плоть и приняла скелет.
И вновь – ладьи у стен Капернаума,
И в утра час средь весел и сетей
С детьми на ловле дряхлый Заведей.
Не даром ты над этой книгой горней
Истратил годы лучшие свои,
Когда душа светлее и упорней
И путь украшен розами любви...
В дни брачных гроз Любви и Слова корни
Навеки ты внедрил в моей крови...
Прими ж теперь колосья поздней жатвы:
Я не нарушил верности и клятвы.
Не снова ль кровью искрится вино?
Не снова ль пир и ликованье в Кане?
И за звеном смыкается звено
В цепи годов, и в голубом тумане
Встает твой лик, потерянный давно,
На юности и отрочества грани,
И переплыть житейский океан
Дает нам весла рыбарь Иоанн.
Как по утрам бывало мне желанно
Со словарем беседовать в тени,
Смотря, как блещет вечный снег Мон-Блана
Над тесным дном ущелья Шамуни!
Как мы с тобой читали Иоанна
В стране лучей теперь воспомяни
Как после чтенья, светлый и могучий,
Ты вел меня, сквозь черный лес, на кручи.
Оставлен дом, ущелье позади,
И ледников кристальные громады
Лазурной лентой вьются посреди
Еловых чащ, где мчатся водопады...
И сердце разгорается в груди,
А снежный блеск слепит и тешит взгляды.
Пусть ломит ноги, пусть струится пот:
Опять идем без устали вперед.
Да, мы с тобой бывали на вершине,
Где редко ходит смертного нога,
Там нет травы и под немой пустыней
Лишь вечных гор сияют жемчуга.
там ждали мы неведомой святыни,
Страны чудес искали берега.
Вверху – Таир , у ног – обрывы, бездны,
И с каждым шагом крепнет хлад железный.
Пошли же мне тот горный чистый хлад,
Очам душевным даруй взор орлиный,
Дай силы мне не отступить назад
В греховной ночи дымныя долины,
Чтоб впереди, не ослепляя взгляд,
Зажегся свет, превечный, триединый,
И передать я бедной речью мог
Язык громов, что слово было Бог.
И, золотое миновав преддверье,
Пред коим смолкла демонов гроза,
Пойдем с тобой в Вифанию, к пещере,
Где просияла Божия слеза,
Чтоб нас навек слила в любви и вере
Христовой плоти чистая лоза!
Отец, я не забыл твоих уроков,
Я жду тебя, не испытуя сроков.
Июль 1918 г. Дедово
<5>
Амброзией и нектаром богов
Питал ты нас, когда мы были юны.
О, как в руках твоих звенели струны
Латинских лир из сумрака веков.
Лукреция язвительных стихов
Огонь и Цицероновы перуны...
Народа речь цвела фиалкой юной
У девственных умбрийских родников.
Года прошли. Ты видишь с нами всеми
Развалины дворцов и академий.
Увенчан серебристой сединой,
Шалуньи Лесбии ты помнишь слезы.
Катулл и Плавт и этою весной
Античные тебе срывают розы.
<6>
К М. У.
Ненастный день, осенний вечер серый,
И ветра вой, и облака как дым...
На твой порог, порог любви и веры,
Я прихожу, усталый пилигрим.
Оставлен мир. В тени твоей пещеры,
Как в оны дни, сияет вечный Рим.
На твой порог, порог любви и веры,
Я прихожу, усталый пилигрим.
Рассеяны блестящие химеры,
И близок Тот, кто на земле незрим.
На твой порог, порог любви и веры,
Я прихожу, усталый пилигрим.
Сентябрь 23 – апрель 24
<7>
М. А. ПЕТРОВСКОМУ
Когда в таинственном тумане
Синел далекий жизни путь,
И, полная очарований,
Меланхолическая жуть
Звала нас в замки суеверий,
Ты помнишь, милый, наши сны
В весеннем засиневшем сквере
В сияньи мартовской луны?
В бреду весны первоначальной
Сливались смутно в мир один
В волнах стихии музыкальной
Виденья духов и Ундин
И звал к себе нас из тумана
Единый лик, в журчаньи вод,
В глазах цветов, в громах органа,
В устах, алеющих как плод.
Тот мир воспоминаний дорог,
Но после гроз пережитых,
Ну не смешно ли лет под сорок
Влюбляться в змеек золотых?
Но если в сердце станет серо,
Приятно вечером глухим
Прочесть страничку «Элексира»
И за Медардом ехать в Рим.
Я жду тебя во мгле собора
И там, где ладан и орган,
Обнимет жарче Теодора
Все тот же прежний Киприан.
25 февр 1925 Надовражино
<8>
К А. И. А.
Тот миг не может быть случаен,
Когда, как призрак неземной,
Среди Лефортовских окраин
Ты вдруг явилась предо мной.
Среди тюремных, грозных зданий
Ты, безмятежная, плыла,
Несокрушима средь страданий
И сверхъестественно светла.
Как дева оная Сиены,
Спокойно озаряла ты
Замки железные и стены,
Как рая красные цветы.
В одежде иноческой, скромной
Уж ты предсозерцала крест,
Года в цепях и в келье темной
- Награду Божиих невест.
Высокая, как лебедь белый,
Холодная, как горный снег,
Ты образ свой запечатлела
В воспоминании навек.
И ты в темнице, средь злодеев,
Убийц, разбойников, как тот,
Кто, распятый рукой евреев,
Себя нам в пищу отдает.
Гора любви, гора распятий
- Твоя гора. В сей краткий миг
Упала капля благодати
И в мой скудеющий родник.
27 окт. 1926
<9>
В древнем парке реют тени,
И смеется синий пруд.
Полон тайн и сновидений
Задремавший Чесни-Вуд.
Где фиалка взором юным
Оживила влажный дерн,
Пала ночь, и в свете лунном
Бродит черный Телькингорн.
Много лет в гробу семейном
Рылся этот черный крот.
Пахнет дорогим портвейном
Высохший бесцветный рот.
Лэди Дэдлок! На мгновенье
Яркий луч разрезал ночь:
Ты изведала забвенье,
К груди прижимая дочь.
И потух огонь весталки,
И навек убита честь,
Но весенние фиалки
В гордом сердце будут цвесть.
Но бесшумно, но упорно
Близится возмездья час:
Черный призрак Телькингорна
Движется во мгле террас.
Полночь. Выстрел. Кто застрелен?
Тени реют и зовут,
Но как прежде свеж и зелен
Задремавший Чесни-Вуд.
Где синеют волны пруда,
Там, где гуще тень аллей,
Под дубами Чесни-Вуда
Виден белый мавзолей.
Дряхлый всадник на закате
Там замедлит бег коня,
И вздыхает об утрате,
Лоб крестом приосеня.
В листьях дуба шепчет ветер:
«О, приди, я все простил!»»
Дряхлый, бедный сэр Лейчестер, -
Словно выходец могил.
1926
1. РГБ. Ф. 696. Карт. 1. Ед. хр. 10. О дяде Вите см. соответствующую главу в воспоминаниях. Ср. также в письме 8 июля 1916 года к Н. А. Врангель-Левицкой: «В Дедове зато меня ждали отвратительные неприятности с моим дядей, всего хуже было как раз в Ахтырскую» (отсюда); 2. РГБ. Ф. 696. Карт. 1. Ед. хр. 11. Коростень – город в нынешней Житомирской области Украины. Упоминается в Повести временных лет как столица древлян (с чем и связан образный строй стихотворения). Соловьев был на Западной Украине в войну; в обширном маршруте, вычленяемом из статьи «Впечатления Галиции» (Соловьев Сергей. Богословские и критические очерки. Томск. 1996. С. 207 – 248) Коростень не значится, да и сама тональность впечатлений путешественника разительно отличается от зафиксированной в стихотворении. 3. РГБ. Ф. 696. Карт. 1. Ед. хр. 10. Епископ Трифон (в миру: Туркестанов Борис Петрович; 1861 — 1934), митрополит, известный проповедник, первый викарий Московской епархии. Ср. его выразительный портрет: «Храм переполнен, служит Епископ Трифон, очень популярный в Москве, но поистине отрекшийся от мира. Ведет, говорят, совершенно замкнутую жизнь, и даже не в монастыре, а в частной квартире, занимая одну жалкую комнатку. Внешность его как бы подтверждает такую обстановку: не так давно он был совершенно черен волосом (он из восточных "князей"-туркестанов), а теперь седой, с изможденным лицом, но зато, когда облачился в красные торжественные ризы и в митру, - явил из себя картинного епископа. Так шло к пышной церковной обстановке его иконописное лицо, и к тому же все его возгласы и чтение Св. Евангелия были проникновенны и западали в души молящихся. У него несильный, но приятный голос и уменье им пользоваться» (Окунев Н. П. Дневник москвича. Б. м. 1990. С. 292). Соловьев познакомился с епископом Трифоном и монахами Богоявленского монастыря в Москве летом 1913; ему посвящен сборник стихов Соловьева «Возвращение в дом отчий». 4. Там же. «Евангелие Иоанна как основание христианского догмата» - включено Соловьевым в план своего двенадцатитомного собрания сочинений, но до настоящего момента не разыскано. Швейцарские топонимы вряд ли нуждаются в комментариях; одно слово (предположительно – «Таир») в тексте прочесть я не могу. 5. Там же. Герой акростиха – Грушко (Грушка) Аполлон Аполлонович (1870 - 1929) — приват-доцент историко-филологического факультета Московского университета. 6. Там же. Адресат не опознан; 7. Там же. Петровский Михаил Александрович (1887 - 1937) – филолог, библиограф, переводчик; сотрудник ГАХНа и ИМЛИ. Расстрелян (см.). …страничку «Элексира»… - Т. е. «Элексиров сатаны» Гофмана. Медард – герой этого романа. …Теодор… Киприан… - Из романа Гофмана «Серапионовы браья». 8. А. И. А. – Анна Ивановна Абрикосова – мирское имя матери Екатерины (1882— 1936), католической монахини - основательницы Доминиканской общины восточного обряда в Москве. О ней см.: Осипова И. «В язвах твоих сокрой меня…» // Символ. 1996. № 35. С. 182 – 187; 9. РГБ. Ф. 696. Карт. 1. Ед. хр. 11. Входит в т.наз. «диккенсковский цикл», большая часть которого напечатана: Соловьев С. «Ты помнишь ли..»; Гениева Е. Эти большие надежды. О диккенсовском цикле С. М. Соловьева // Вышгород. Таллинн. 1999. № 4-5. С. 6 – 21; основан на сюжете романа Диккенса «Холодный дом». Соловьев называет героев в соответствии с транскрипцией, принятой в начале века; в оригинале это Lady (Honoria) Dedlock, Mr Tulkinghorn, Sir Leicester Dedlock, а топоним - Chesney Wold.
|
|
</> |

 На что обращать внимание при остеклении балкона?
На что обращать внимание при остеклении балкона?  Серьезный настрой
Серьезный настрой  Здесь тебя водят, как ребеночка
Здесь тебя водят, как ребеночка  Некрасивые корабли нам не нужны
Некрасивые корабли нам не нужны 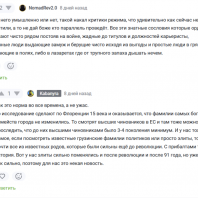 Про варианты вылезти из нищебродства
Про варианты вылезти из нищебродства  Без названия
Без названия  Без названия
Без названия  Просто разные коты
Просто разные коты  Родители,бабушки,дедушки ловите лайфхак!
Родители,бабушки,дедушки ловите лайфхак! 



