Савва Отче. Незаупокойная лития по Савве Васильевичу Ямщикову
 lev_shlosberg — 20.07.2024
lev_shlosberg — 20.07.2024
Пятнадцать лет назад, 19 июля 2009 года, в воскресенье, в Пскове умер Савелий Васильевич Ямщиков – большой Савва русской культуры. «Псковская губерния» посвятила тогда Савве персональный выпуск, вышедший в свет с литерой «Прибыл навсегда». Я написал для того выпуска статью «Савва Отче», которую вспомнил и перечитал сегодня, в день печальной годовщины. Помню прощание в Псковском музее-заповеднике, отпевание в Успенском соборе в Пушкинских горах, рядом с могилой Пушкина, похороны на городище Воронич, в нескольких шагах от могилы друга, хранителя Пушкиногорья Семена Степановича Гейченко. Горечь утраты уже тогда не затмевала человеческого и культурного масштаба Саввы. Образовалось огромная, зияющая пустота, заполнить которую было невозможно. Но возможно – запомнить.
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЛЬВОМ МАРКОВИЧЕМ ШЛОСБЕРГОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЛЬВА МАРКОВИЧА ШЛОСБЕРГА
Савва Отче. Незаупокойная лития по Савве Васильевичу Ямщикову
Савва Васильевич Ямщиков завершил свой земной путь в больничной реанимации. Это его последнее недобровольное пристанище удивительным образом оказалось трагически созвучно тому, что он делал всеми силами своей могучей души и обременяющего ее тела. Он был реаниматором вся Руси – той страны, которую разрубили по живому и разорвали потом на куски события отеческого для него лично, но губительного для Отечества ХХ века.

Полвека он был реаниматором русской классической культуры – не один, но одним из немногих – в сумасшедшем доме беспамятства. И острое понимание этой миссии делало его пророком в своем Отечестве, которых, как это предрешено задолго до него, в полной мере признают лишь посмертно.
Савва Васильевич Ямщиков жил на грани Жизни и Смерти десятки лет. На грани Жизни и Смерти Культуры. На грани Жизни и Смерти ее единственного носителя – Народа, который он любил и проклинал одновременно. В рукотворных произведениях одухотворенного искусства он видел суть народа, которую пытался народу вернуть.
Реставрация икон и картин, спасение храмов и музеев, возвращение забытых имен простых людей, запечатленных на провинциальных холстах, и подвижников всей страны, причисленных к лику святых – всё это был для него единый и неразрывный труд Воз-Рождения Народа, утратившего волю к жизни. Реставрация. Реанимация. Возвращение к жизненным корням.
Он был огромным сколом подлинной русской культуры, самородком народного таланта, пробившимся на поверхность ХХ и ХХI веков сквозь пласты государственных репрессий, поругания святынь, вероотступничества, клятвопреступлений, трусости и предательства.
Он был собиратель разрушенной Руси – собиратель русской культуры в единое целое, единую ткань, единое живое тело из разорванных на кровоточащие лоскуты полотен, он сращивал их собой, он оживлял их своими руками и, оживив, являл стране и миру. Лица и Лики. Посмотревшись в них, народ должен был стать другим. Осознав свое достоинство, Россия должна была возродиться. Собраться как страна.
Он носился по стране, выискивая и выхватывая из пасти времени и лап варварства драгоценные произведения человеческого духа и, точно лучи угасающего солнца, согревал их в своих больших ладонях, надеясь вернуть стране, народу, сияние светила в его зените. Он искал в России очаги Руси, очаги настоящей жизни и видел в них путеводные маяки спасения всей страны.
Он физически мучился и морально страдал от вида любого разорения культуры и жизнеустройства – это был его дом, его страна, его храм. Он пришел спасать свой народ.
Образ войны и разрухи – это именно то, что видит перед собой реставратор, принимая в руки изувеченные временем и людьми произведения искусства. Война и разруха – это то, чему он противостоит, с чем он сражается. А пласты поздних записей на иконах сравнимы с веками забытья, сняв которые, он открывал современности сами корни культуры, животворящие корни народа.
Эти тысячелетние корни ворочались в нём самом и заставляли его жить и тогда, когда жить не хотелось, заставляли трудиться тогда, когда казалось, что трудиться невозможно, заставляли вспомнить о своем предназначении и соответствовать ему.
Он был яростным и поразительно терпеливым, бережным, нежным одновременно.
Природа русского мастерового пробилась в его лице сквозь глухие камни безвременья и расцвела всецветной живописной палитрой, как будто врачующей кистью его водила другая, Высшая рука.
Он точно знал, как должна жить страна, как обязан жить народ, что он должен хранить, чего он должен бежать и чему должен следовать. Он нес в себе тот уклад национальной жизни, который считал для народа и страны единственно правильным, единственно необходимым. Он вел за руку народ по своей стране – как пастырь, как поводырь, как проводник. Шел, переваливаясь с боку на бок, с посохом в руке, терпя несусветную боль в измученных ногах, но мысли его двигались легко, потому что он был абсолютно уверен в правильности указанной им дороги. И – самое главное – он шел по ней сам.
Он считал, что страна и народ тяжело больны. Больны острой культурной недостаточностью, которая губительна для народа и смертельна для страны. Он жил в режиме неотложной помощи культуре, и это было состояние не просто ежедневное – ежечасное. Это вдохновляло и калечило его одновременно.
Его лекарская миссия в культуре была сродни воинской. Мир делился на сподвижников и врагов. Чувства любви к друзьям и ненависти к врагам были в нем сопоставимы по мощи, и это разрывало его на части, истощало порой его силы и лишало его душевного равновесия, столь нужного художнику. И любовь, и ненависть были у него космического масштаба. Он был похож на огромный магнит, к полюсам которого притягивались и от полюсов которого отталкивались одновременно тысячи людей. Люди вращались вокруг него, как вокруг Солнца.
Учителей своих он почитал как святых. И многих друзей своих называл своими учителями. Больше половины сказанного и написанного им – про тех, кто сделал его самого человеком культуры, открыл ему ее сокровища, передал ему ее коды. Он боготворил этих людей. Рассказывая о них, он продлевал их жизнь. Он помогал им при жизни и дарил им жизнь после смерти, донося их голос до своих поздних и часто опоздавших современников. Он звал и собирал живых, заклиная их именами ушедших. Он очень хотел, чтобы его тоже помнили.
Почти все его выступления были проповедями. Он верил в слово, верил в то, что Слово врачует и казнит. Слово было частью его существа. Его полугодовой юбилейный тур по любимым городам был его прощальной проповедью перед народом. Всё, что исповедовал, он считал правдой, а всё то, чему сопротивлялся – неправдой.
Он видел, как стране больно, и постоянно об этом кричал. Он и сам был – большой набатный колокол с надтреснутым голосом, от звука которого колыхался, трепетал и раскалывался воздух. Святые на иконах слышали и узнавали его.
Он постоянно обрастал людьми. Друзья прозвали его Савва Большое Гнездо – как звали в древности многодетных князей, оставивших множество наследников. Каждому новому хорошему знакомству он радовался как ребенок, он умел восхищаться людьми – с искренностью влюбленного.
Он идеализировал своих друзей и демонизировал своих врагов.
Нет никаких сомнений, что враги его будут жариться в аду. Сковородку с кипящим маслом он уготовил для них лично и с полной мерой своей ответственности за это важное и богоугодное дело.
Некоторые из его врагов придут на его похороны, чтобы удостовериться, что он действительно умер. Они будут смотреть на его большое упокоившееся тело и надеяться, что теперь-то он не достанет их.
Мы не вправе предрекать, что Савве Ямщикову откроется рай небесный, потому как грехов своих он не скрывал и относился к ним как не самому печальному обременению своей натуры. Но верю, что кисть его вымолила ему прощение. Потому что когда он творил, он был всегда праведник. И там, где будет теперь обустроена его душа, он будет находиться на прямой связи с Господом, в наличии которой он не сомневался при жизни. И если уж сочтет нужным за кого похлопотать – друзей ли, врагов ли – похлопочет всенепременно. Теперь у него есть для этого другие возможности, и суета времени уже не помешает ему.
Восстанавливая порушенную и забытую жизнь, он ежедневно шел против течения – удерживая голыми руками беспощадное колесо истории, обдирая ладони и костяшки пальцев до крови, до костей, до морального скрежета души. Он создавал вокруг себя турбулентное пространство – как реактивный самолет, преодолевающий скорость звука.
Он производил собой огромную подъемную силу – и это был неподъемный для простого смертного труд. Он поднимал собой народ, будил в нем совесть и стыд, укорял его позором бескультурья. Культуру – и только культуру – почитал он миссией народа.
Он нашел именно на Псковской земле свой приход, свой очаг и свой последний приют. Он не знал, где умрет, но последним усилием воли вырвался сюда – к своим духовным корням. Он заставил теперь приехать в Псков, к нему на прощание, тех, кто, возможно, никогда здесь не был. Даже последним своим движением он собрал народ здесь – где должен же он, наконец, святой и грешный, свободный и рабский, стать Народом. Хотя бы и ценой его жизни тоже.
Его кончина вызвала всплеск отчаяния – во многом им самим взращенного, им выдохнутого и оглашенного – от очарования гибнущим на глазах миром, спасение и возвращение которого было смыслом всего его титанического движения по жизни. От рождения – к смерти. От смерти – к возрождению.
И это мученическое подвижничество очарованной и страдающей души дарует ему теперь жизнь вечную.
22 июля 2009, Псков
|
|
</> |

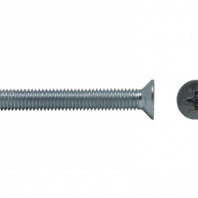 Винт DIN 965 и стопорное кольцо DIN 472 – надежные и универсальные изделия
Винт DIN 965 и стопорное кольцо DIN 472 – надежные и универсальные изделия  не на злобу дня
не на злобу дня  Улиты
Улиты  Утро
Утро  50 лет благодарности: история женщины, получившей почку от отца
50 лет благодарности: история женщины, получившей почку от отца  О дуэли Ростроповича с Ойстрахом
О дуэли Ростроповича с Ойстрахом  Трудно быть трезвым.
Трудно быть трезвым.  Сергей Ревин. День рождения.
Сергей Ревин. День рождения.  Тренировка аэродромных служб
Тренировка аэродромных служб 



