Роберт Шекли: "Жизнь развивается в жанре антиутопии. Любовь тоже, потому что
 philologist — 05.02.2020
Беседа писателя и журналиста Дмитрия Быкова с американским
писателем-фантастом Роберта Шекли (1928-2005), 1999 год. Текст
приводится по изданию: Быков Д.Л. И все-все-все: сб. интервью. Вып.
2 / Дмитрий Быков. — М.: ПРОЗАиК, 2009. - 336 с.
philologist — 05.02.2020
Беседа писателя и журналиста Дмитрия Быкова с американским
писателем-фантастом Роберта Шекли (1928-2005), 1999 год. Текст
приводится по изданию: Быков Д.Л. И все-все-все: сб. интервью. Вып.
2 / Дмитрий Быков. — М.: ПРОЗАиК, 2009. - 336 с.Дмитрий Быков: Великий американский фантаст приезжал на петербургский фантастический конгресс «Странник». Его осаждали интервьюеры, от встреч он не уклонялся и ни разу не повторился. Здесь — контаминация нескольких разговоров, записанных на конгрессе.

— Я начну со странного вопроса: почему не сбылась ни одна антиутопия, на которые был так щедр XX век?
— Никто и не рассчитывал, что они сбудутся. Когда автор хочет предупредить о серьезной опасности, он бьет во все колокола и выдает самые мрачные прогнозы, лишь бы его услышали. Это не предсказания, а мольбы остановиться, так что все надо делить на сто. И когда поделите, вы уже не будете так уверенно говорить, что ничего не сбылось.
— Ну как же? Я жив, вы живы...
— Это временно. Жизнь развивается в жанре антиутопии. Любовь тоже, потому что она кончается. Почти всегда.
— А в бессмертие души вы не верите?
— Всю жизнь мечтаю поверить, но никак.
— То есть религия для вас не существует?
— Почему, из жизни ее не вычеркнешь... но это игра. Я всю жизнь играю в игры, так что и сейчас не ждите особенно серьезных ответов.
— Вы начинали в блестящей плеяде американских сатириков. Шекли, Хеллер, Воннегут, Бухвальд — эти имена и сегодня музыка для русского слуха. Сегодня я что-то не вижу в Штатах действительно злой сатиры. Что, зажирела нация?
— Генерация действительно была ничего себе, сейчас ничего подобного нет. Я могу предложить только одно объяснение, не слишком научное. Социальная сатира — не высший род искусства. С этого хорошо начинать, можно сделать две, три такие книги, но дальше с этого трамплина надо прыгать в какое-то более индивидуальное занятие. Сегодня писатель пробует одно, завтра — другое. Ранний Воннегут был очень хорош, но ему захотелось поиграть в другие игры. Хеллера, чью «Уловку» я очень высоко ставлю, захотелось написать несколько философских романов, ни один из которых я не дочитал. Меня потянуло в абсурд, где я и пребываю не без удовольствия.
— Вашего постоянного протагониста называют космическим ковбоем, типичным американцем. И сами вы, несмотря на годы, появляетесь в джинсах, в кожанке, много курите, — это тоже ковбойская натура?
— Нет, чистый имидж. Про космического ковбоя я согласен, про среднего американца — в меньшей степени, у меня и рассказ был про среднейшего из американцев, которого вычислил компьютер, и этот выбор ему чуть всю жизнь не поломал. Отовсюду погнали парня — кому нужна посредственность? Смысл жизни ему вернули женщины, желавшие испробовать на себе этот эталон американской сексуальности, вроде платинового метра. Если вас интересует определение моего протагониста (хотя на самом деле их много), — я сказал бы, что это одиночка, любящий людей. Любящий их вчуже, несколько абстрактно.
— Вы замкнуто живете?
— Большинство обмануто стандартным образом американского писателя, — это особенно процвело в шестидесятых, когда возник такой усредненный литератор, заработавший очень много денег и теперь вынужденный постоянно пить. Скука, пресыщенность и дикое количество алкоголя. Это ко мне неприменимо. Пить я не люблю, потому что кайф очень быстротечен, а последствия непропорционально тяжелы. Путешествия привлекают меня не как цель, а как средство: я люблю уехать из Штатов, но только для того, чтобы спокойнее было писать. А так я все время пишу, с шести лет не делаю почти ничего другого. Я уже в пять знал, что буду писателем.
— А когда не пишется?
— Все равно пишу. Чушь ужасную. Эти вещи я так и называю — «not for sale». Совершенно некондиционные тексты, даже не показываю никому. И так — день, два, три, пока не распишусь.
— Кристи придумывала свои сюжеты, сидя в ванне и грызя яблоки. В чем сидите и что грызете вы?
— Сижу в кабинете, не грызу ничего. У меня там напротив стола белая стена, сижу и гляжу в нее, пока не увижу что-нибудь осмысленное. Под музыку. Предпочитаю «Пинк Флойд».
— Но «Пинк Флойд» был не всегда, вы пишете лет пятьдесят...
— Тогда был Дебюсси.
— У вас был очень славный старый рассказ — забыл название... про то, как инопланетяне собирают свой космический корабль из обитателей разных планет и им нужен ускоритель. А ускорителя нигде нет. Им оказывается человек.
— Был такой рассказ, люблю его. Седая древность. Назывался «Специалисты».
— Точно. Почему вы человека назвали Ускорителем?
— Проще всего сказать, что время было такое — пятидесятые годы, ускорение всего... Но это было не совсем так, еще довольно рабское было время, как мне кажется. Просто на его фоне особенно ясно было видно, что можно развить технику до любых пределов, — вот как у них на этом корабле, — а без духа человеческого никуда не полетишь. Spirit, великое дело.
— Среди первых ваших рассказов, которые тут завоевали настоящую славу, — «Терапия», напечатанная в «Иностранной литературе» в середине шестидесятых. Если я правильно его понимаю, вы не верите во взаимопонимание между людьми?
— Коллизию рассказа помню плохо, потому что ему сто лет. Но, видимо, вы его правильно понимаете, так как я действительно думаю, что человек человека никогда не поймет вполне. Преодолимы нравственные, расовые, возрастные и прочие барьеры, но душу свою объяснить нельзя и понять чужую — тоже.
— Прямо вы экзистенциалист...
— Очень их уважаю. Некоторые формулировки Сартра настолько точны и исчерпывающи, что подписываюсь безоговорочно. А самый умный из них был Камю. Его «Миф о Сизифе» — лучшее исследование абсурдности человеческого существования, когда-либо кем-либо предпринятое.
— Вы что, полагаете его абсурдным?
— Абсолютно.
— То-то говорят, что вы циник...
— Ну, пусть говорят. Живет американец, ему кажется, что все происходящее с ним донельзя серьезно. Безбелковая диета, жена, карьера. Едет в свой офис и думает, что живет. Страшно озабочен регулярностью своей половой жизни. Тут прихожу я и показываю ему абсурдность всего этого в сравнении с чем-то действительно рискованным или просто выворачиваю его жизнь наизнанку, чтобы он увидел, насколько это все смешно. Ему кажется, что я циник, — нормальная оценка...
— Что, поглупела Америка за последние двадцать лет?
— Может, и поглупела... Допустим, я скажу «да». И что в этом плохого?
— Я совершенно не хотел задеть ваши патриотические чувства...
— Да я не такой фанатичный патриот, просто если средний житель страны поглупел — это, может быть, вовсе и не катастрофа для страны... Я мало озабочен уровнем этого среднего человека. Живу независимо, политикой не интересуюсь совершенно.
— В том числе и русской?
— Тем более.
— А каких русских знаете?
— Корженевского, Толстого, Достоевского, Чехова и Гоголя. Первого, четвертого и пятого уважаю особенно.
— К такой своей русской славе вы были готовы?
— Никоим образом. На «Страннике» все фантастично, а самое фантастичное — это мои старые романы, перепечатанные на машинке и подаренные мне здесь. Мне все время кажется, что вы сейчас хором воскликнете: «Обознались!» Во всяком случае, первые дни я был уверен, что меня принимают не за того.
— А первый успех вы помните?
— В начале пятидесятых несколько моих рассказов прочел Фредерик Пол. Он был тогда литературным агентом, один мой друг нас познакомил. Тот прочел и сказал, что берется продать все, что я напишу. На свою и вашу голову, я ему поверил и с тех пор работаю ежедневно, без выходных.
— И как строится ваш день?
— Я встаю в половине седьмого и пишу до девяти, потом завтракаю, — не особенно заботясь чем, — пишу до полудня, гуляю, ем, пишу или придумываю, потом читаю. Читаю массу всякой литературы, главным образом не фантастику.
— Что, реализм?
— Реалистов я тоже не очень люблю, мне скучно. Чаще всего социологию, философию, драматургию.
— Себя перечитываете?
— По необходимости, если правлю или продолжаю старую вещь. Не без удовольствия.
— Был коллега, которому вы завидовали?
— Нет. Я восхищаюсь со стороны, но то, что делаю я, — могу сделать только я. Иногда завидую себе будущему, который уже написал то, к чему я нынешний только подступаюсь. В принципе я читаю не больше одной фантастической книги в год.
— Я слышал, в юности вы были довольно рисковым малым...
— Не больше, а может, и меньше, чем любой молодой человек. Я любил погонять на машине, но почти всегда держал себя в руках. Пил и тогда мало. Реальной опасности подвергался редко, хотя любопытство во мне, по-моему, сильнее страха. Может быть, потому, что я не слишком много значения придаю своей персоне.
— У вас в прозе много воюют. Вы сами служили в армии?
— Два года в оккупационных частях в Корее. Это была не война, довольно рутинная служба, я там газету редактировал. Шанс погибнуть был ничтожно мал.
— А не было у вас чувства вины перед корейцами?
— С какой стати?
— Все-таки оккупационные войска...
— Нет, не было. Мы же там не воевали... И вообще я плохо себе представляю, что такое чувство вины. Оно мне незнакомо.
— Вы настолько не любите рефлексировать?
— Нет, self-digging не для меня. Я вообще довольно редко что-нибудь делаю, только пишу. В том, что пишу, я обычно не раскаиваюсь. И потом, я уже в том возрасте, когда человек знает, что делает, и не делает того, от чего его впоследствии будет воротить. Что толку совестью мучиться, каков от этого вообще практический эффект?
— Вы не верите в способность литературы воспитывать читателя?
— Она меня не волнует, эта способность. О читателе пусть думают моралисты, а я считаю себя художником, причем в самом буквальном смысле. Одни рассказывают истории, другие — как я — рисуют картинки. Я никогда не знаю, зачем здесь тот или иной сюжетный ход и что вообще получится. Я только знаю, что сюда надо бросить одну красочку, а сюда — другую. И будет примерно то настроение, которое мне нужно. Рационально объяснить, что я имел в виду, никогда не получается. Сочинительство мне интересно до тех пор, пока я сам себя не понимаю. Иногда я и рад бы проанализировать свое сознание, но это такой материк, по которому я до сих пор странствую чужаком. Оно продуцирует какие-то истории без всякого моего участия, всегда неожиданно, и в этом вся приятность.
— Вы согласны, что женщина не может изобрести хороший фантастический сюжет?
— Полный бред. Еще как может.
— Но у них же не развито абстрактное мышление?
— Примитивный сексизм. Вы Урсулу читали?
— Ле Гуин?
— Да. Что, это не классика? Жена Генри Каттнера писала лучше Генри Каттнера. И вообще — женщина измысливает такие поводы для ревности, какие мужчине в голову не придут. Их воображение гораздо изощреннее нашего.
— Вы упомянули скучного американца, озабоченного своей половой жизнью. Но разве секс — не самая фантастическая сфера нашего бытия?
— Если не подходить к нему с точки зрения гигиенической или порнографической, — о да, безусловно! Во всяком случае, это самое фантастическое, что может случиться с человеком. Но это не моя тема.
— Вы трудно пишете?
— Чаще всего сочиняю рассказ в один присест, иначе есть риск не выдержать интонацию. Некоторые вещи переписаны по семь раз, но их я люблю меньше. Хороший текст идет легко — не следует измерять достоинство литературы количеством переписываний.
— А еще говорят, — заранее извиняюсь, — что вы очень жадны и страшно следите за копирайтом...
— Нет, я человек не жадный. Половину своих копирайтов я просто потерял из виду — в частности, российские. Но я так устроен, — и, видимо, большинство литераторов таковы: я не считаю себя профессионалом, если мне не платят денег. И потом, я так много написал потому, что мне надо кормить семью. Это не худший стимул.
— Но семья из благодарности считает вас лучшим писателем в мире?
— Отнюдь. Жена вообще не очень любит меня читать, хотя я и стараюсь немедленно ей показывать все новое. Дети любят, но не сказал бы, что они ставят меня выше Диккенса. У ребят есть вкус.
— Вы надолго уезжали из Штатов. Чем вас привлекает Европа?
— Я вообще человек скорее европейский, если судить по моим читательским пристрастиям. Мне нравится жить во Франции, в Испании, — я провел в Европе почти все семидесятые. Соскучусь — возвращаюсь. У меня в Европе и друзей больше, хотя я замкнуто живу. А что меня там привлекает — сказать трудно; наверное, утонченность и древность культуры.
— Многим эта древность кажется дряхлостью. «Закат Европы», все такое...
— Никакого заката. Европа уравновешивает Америку, она ничуть не дряхлее и не слабее.
— А каково место Азии на этих весах?
— Я мог бы вам сказать, что она уравновешивает Африку... Но я так мало смыслю в азиатских и африканских делах, что мне иногда кажется — Восток пока не играет в мире сколько-нибудь существенной роли. Говорят, что XXI век будет веком Азии. Возможно. Пока это не так. И Африке, я думаю, еще далеко до настоящего влияния на судьбу человечества.
— Прогнозами, как я понимаю, вы не занимаетесь?
— Фантастика вообще не имеет отношения к футурологии, во всяком случае моя. Иногда угадаешь, совпадешь, но ставить это целью... Лет десять назад я мог бы запросто предсказать, что холодная война продлится еще век. Сами видите, какой из меня пророк.
— Вспоминаю ваш рассказ «Four elements», «Четыре стихии», — про человека, в котором воспитатели увидели потенциального преступника и потому разъяли его на четыре самостоятельные личности. Интересно, какие стихии вы обнаруживаете в собственном характере?
— Этот рассказ получился из строчки Уитмена о том, что он вечно себе противоречит и никогда себе не равен. Дословно не вспомню, но за суть ручаюсь. Я настаиваю (и из рассказа это, по-моему, ясно), что человек, которого не раздирают противоречивые желания, — неполноценен. Человек — одно великое ходячее противоречие. Я — не исключение. Моя вода борется с моим огнем, почвенное спорит с воздушным. Всякая попытка примирить или разъять четыре стихии хуже убийства. Настоящему Ускорителю должно хотеться всего и сразу, жизнь — это перетягивание меня в разные стороны.
— У вас был рассказ о духе, который стал предупреждать героя об опасностях, а когда тот начал слушаться — число опасностей удесятерилось...
— Да, помню. На всякую предосторожность находится десяток контрпредосторожностей, так что из этой паутины не выпутаешься.
— Следует ли понимать, что бояться вообще не следует ? Неужели вы и в детстве ничего не боялись?
— Боялся, а кого это волнует? Ничего вам не скажу о страхах моего детства, это мои дела. Я положил жизнь на то, чтобы бояться только созданий своего воображения, а не каких-то реальностей. На реальность вообще не стоит обращать внимания, если вы хотите прожить полноценную жизнь. Иногда, смею думать, мне удается напугать читателя. Делаю я это для того, чтобы он начал бояться литературных чудовищ и перестал трястись перед ничтожествами, в совокупности называемыми действительностью. Какой смысл принимать их в расчет? Литература затем и нужна, чтобы читатель перестал наконец бояться ерунды, которую он принимает за жизнь.
Вы также можете подписаться на мои страницы:
- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy
- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky
- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy
- в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/
- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky
- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky
|
|
</> |

 Почему стоит доверить решение сложных правовых вопросов юристам Alina & Partners под руководством Айжан Алиной
Почему стоит доверить решение сложных правовых вопросов юристам Alina & Partners под руководством Айжан Алиной 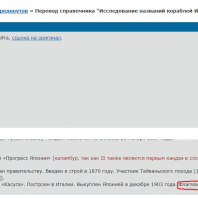 Это
Это  14 собранных МС-21, новый сбор с пассажиров, неприветливый аэропорт Кургана
14 собранных МС-21, новый сбор с пассажиров, неприветливый аэропорт Кургана  АМИНЬ!!! Слова Пригожина до Богу в уши.
АМИНЬ!!! Слова Пригожина до Богу в уши.  Папочка Трамп спас Израиль
Папочка Трамп спас Израиль  Чего только не увидишь на улицах Будапешта
Чего только не увидишь на улицах Будапешта  Завтраки на острове
Завтраки на острове  Мимоходом
Мимоходом  Пойти что-ли вынести тело из Мавзолея?
Пойти что-ли вынести тело из Мавзолея? 



