ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ: ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ФРАНЦИИ
 lucas_v_leyden — 11.02.2017
- Хорошая машина? – спросил жандарм.
lucas_v_leyden — 11.02.2017
- Хорошая машина? – спросил жандарм.Мне не на что было жаловаться: за два дня и семьсот с лишним километров, которые длилось наше знакомство с автомобилем, он никак меня не подвел и мне не досадил, а, напротив, с честью выбирался из небезупречных условий нашей извилистой дороги. Я кивнул.
- Новый «Мерседес», если не ошибаюсь?
Отрицать это было глупо и я кивнул снова. Кругом пели птицы; солнце светило по-весеннему и вся природа, казалось, радовалась долгожданному избавлению от зимних невзгод (в этих местах вполне опереточных): зеленела мурава, среди которой кое-где вспыхивали желтые искры цветов, напоминающих по виду нашу мать-и-мачеху, но ею не являющихся. Холмистый, мягкий, прелестный пейзаж франко-итальянской границы окружал эту сцену: заснеженные верхушки гор вдали, редкие деревья, асфальтовая дорога местного значения, упирающаяся в т-образный перекресток с другой такою же; полицейский фургон, три жандарма, двое злоумышленников, черный «Мерседес».
- Ваш?
- Не совсем.
Жандарм посуровел. Коллеги придвинулись к нему.
- Ваши паспорта, документы на машину и откройте багажник.
Обучение французскому языку в советской школе (école soviétique) носило довольно схоластический характер: вряд ли моя жестокая учительница (из-за которой, между прочим, меня изгнали оттуда после пятого класса за безнадежность) могла предугадать, что тридцать пять лет спустя мне придется припоминать ее уроки в такой ситуации. Поэтому я до сих пор могу сказать «мои родители работают на заводе», но совершенно не представляю, как будет по-французски «понятые», «права человека», «я хочу позвонить консулу» - а уж тем более (сознание в таких случаях склонно перепрыгивать через ступеньку) «братан» и «козырная шконка». Мысленные тучи сгущались; «этап на север, срока огромные», - запел в голове, издевательски при этом грассируя, краснознаменный хор имени Б. Миллигана.
Я открыл багажник: там лежали трекинговые палки, вымазанные в грязи ботинки, два рюкзака. Жандарм присвистнул.
В 10 часов утра 1 января текущего года я сел к компьютеру и начал фразу «Расстояние между Санкт-Петербургом и Венецией составляет»; 30-го января того же года в восемь часов вечера я написал «вплывает в ярко освещенную историческим солнцем область»: между двумя этими фрагментами пролегли тридцать дней (с перерывами на инфлюэнцу, индижестию и семейные дела) и сто двадцать пять страниц исторического путеводителя по Венеции, описывающего практику путешествий вековой давности. Поставив, наконец, точку, я почувствовал, что заслужил небольшую прогулку и, развернув карту Европы, уставился на нее. Логичнее всего было бы отправиться непосредственно к предмету ученых занятий, но все-таки это было бы слишком прямолинейно, да и мне, признаться, хотелось гор, уединения и сдержанного оптимизма, а не сверки впечатлений. В феврале, между тем, большая часть европейских вершин (даже не слишком высоких) намертво укрыта снегом, так что, по сути, выбирать приходилось между Италией, Португалией и Францией. Быстрый пересмотр ауспиций на ближайшую неделю подтвердил мои предположения: лучше всего погода была обещана в окрестностях Ниццы, так что мы с NN купили билеты на аэрофлотовский прямой рейс, забронировали гостиницу и машину, сложили чемоданы и отправились в путь.
Самолет наш назывался «Д. Шостакович». Как могло получиться, думал я, проходя на свое место, доставая электрокнигу и усаживаясь поудобнее, что из всех сочинений умнейшего, тончайшего и во всех отношениях выдающегося писателя Джулиана Барнса больше всего обласкан нашей критикой и читателями его нелепый и бесталанный «Шум времени»? Вряд ли дело только в том, что это – единственный его текст, прямо посвященный русской жизни; но в чем тогда? Полная несуразицы биография, выставляющая протагониста трусоватым болваном, мечущимся на фоне несуразно намалеванных декораций (мы, кстати, уже летели где-то над Вязьмой) не просто недостойна пера того, кто написал «Любовь и так далее» - она казалась бы дурной, даже будучи подписанной любым другим именем. Впрочем, с собой я взял безупречного Диккенса – вот лучший писатель для путешествий! Встревоженный уже в который раз переживаниями юного Давида К., я забылся, оторвавшись лишь ради встречи с обедом (вполне приемлемым) и разглядывания австрийских гор, над которыми мы пролетали перед тем, как повернуть к Италии и выйти к побережью. Полоса аэропорта Ниццы вдается прямо в море, так что до последнего момента ты горько жалеешь, что всегда пропускал нравоучения стюардесс, так и не запомнив, где все-таки, черт возьми, хранятся эти пресловутые спасательные жилеты, но потом вдруг с характерным хлопком в иллюминаторе возникает асфальтовая твердь и бравый серебристый Дмитрий Дмитриевич подруливает к терминалу небольшого ниццкого аэропорта.
Внутри никого: притихшею толпою мы бредем по длинным коридорам, добравшись, наконец, до паспортного контроля: семь пар чистых быстро проходят в евросоюзное окошечко, а гораздо большее число нечистых, выстроившись в очередь, медленно струятся к другому, когда вдруг случается происшествие. Где-то в кабинке нашего пограничника квакает рация, после чего он с озабоченным лицом покидает рабочее место и вместе со своим доселе скучавшим коллегой устремляется прочь. Очередь начинает строить саркастические теории. «Забастовка?» «Может быть, это все же национальный спорт» «Или обед?» «Ну, обед это святое, ни один француз не пропустит». Наконец, появляется крепыш в штатском, громко спрашивающий, все ли понимают по-французски – толпа отвечает ему многоголосым подтверждением. (Я мысленно порадовался: вряд ли, думал я, многие из прибывающих сюда международных рейсов столь поголовно франкоязычны; впрочем, пассажиры рейса «Москва – Ницца» всегда выглядят как одна большая семья или компания). «Обнаружен, короче, подозрительный багаж», - говорил тем временем крепыш. «Ну мы, значит, аэропорт оцепили, всех эвакуировали, саперов вызвали. Вы, короче, ждите». Здоровое оживление всколыхнулось в наших рядах: есть такое странное испытание духа, когда опасность теоретически зрима, но какой-то земной отсвет бессмертия души не дает в нее поверить. «Тут одни русские и они все шутят», - говорила в телефон красиво встревоженная леди. Я читал Диккенса. «Бдыщщщщ», - явственно раздалось из-за перегородок и вдали кверху потянулся дымок – это, вероятно, прибывшие саперы истребили чемодан, забытый анонимным склеротиком. Через несколько минут нас выпустили прочь, но из аэропорта выйти покуда было нельзя: звероподобный бородач в пустынном камуфляже с каким-то бластером через плечо, как будто только что с космической передовой, сторожил красно-белую ленточку, которой был перетянут нужный нам выход. Вскоре, впрочем, и это препятствие пало – и прелестная служительница с именем Heba (т.е. буквально ветренная Геба) вручила нам ключи от автомобиля.
В горы ехать было поздно, в отель рано – так что мы решили прокатиться по любимым местам побережья. Последние пятнадцать лет мы селимся здесь в какой-нибудь из деревень довольно обширной области между Фрежюсом и Ментоной. Домчавшись до Фрежюса по освежающе пустынной (не сезон!) трассе, легко бросаем машину у самого моря (как сказала бы Ахматова) и идем пройтись по набережной: для того, чтобы припарковаться здесь летом, нужно обладать верткостью угря и везением почище нашего – сейчас же город почти пуст. На набережной стоит почти игрушечный самолетик, некогда рекордно прилетевший сюда из тунисской Бизерты (которой еще только предстояло стать кладбищем русской эскадры); размахивают крыльями пальмы, кружатся чайки, прогуливаются собаки; все органы чувств, истосковавшиеся по солнцу и морю по-птичьи жадно лакомятся впечатлениями. Догуляв до волнолома (вход на который, как принято, запрещен), идем обратно, чтобы успеть, не торопясь, проехаться по памятным дорожкам – с этой точки собственные воспоминания мешаются с литературными – здесь жили мы с маленькими еще детьми, а здесь Мережковские рискнули приехать в свежепостроенный отель и не пожалели об этом: им или нам так пахло олифой, смешанной с настоянным на солнце можжевельником? Медленно, по памяти, едем в сторону Канн, притормозив на полчаса у пляжа Le Dramont – лучшее место, где рифмуются вычуры природы (сделавшей здешние скалы ослепительно красными, чтобы оттенить кубовый цвет моря) и причуды человеческого ума: напротив на острове торчит долговязая башня, выстроенная столетие назад парижским мизантропом. Дальше, прокатившись по извилистой A98, между Mandelieu и La Bocca выезжаем на платную трассу, чтобы не тащиться через труднопроходимые Канны – и, наконец, паркуемся у гигантского магазина в Антибе.
Южный берег Франции – одно из немногих мест на земле, где я решительно предпочту супермаркет ресторану: повара здесь балованы, а кухня стремится угодить не местной традиции, а умопостигаемому представлению туристов о ней: многолетние опыты показывают, что за приличным ужином надо отъезжать километров на 20-30 от берега (и тогда один из сотрапезников вынужден отказаться от вина). При этом мало что может конкурировать с блюдами, созданными самой природой: купив полуторакилограммовую упаковку свежих мидий, дюжину устриц, полкило крупных креветок и бутылку прованского белого, вы обеспечите себе лучший ужин на двоих, который только можно себе представить – а из аксессуаров вам понадобится специальный нож, две кастрюльки, лимон (который можно сорвать с дерева прямо там, где вы будете жить) и немножко оливкового масла – его надо влить в закипающую воду для мидий. Приобретя все это, мы отправились в Ментон – прекрасный черепичато-холмистый городок на самой границе с Италией.
Из всего побережья – если не считать, может быть, Ниццы – это самый заметный топоним в истории русской литературы: в разные годы здесь жили А. К. Толстой, Н. М. Минский, И. С. Шмелев, В. В. Набоков, А. А. Лозина-Лозинский, А. М. Жемчужников; сюда многократно в тяжелые минуты жизни приезжали Мережковские; здесь обитал музыковед Феликс Острога, приятель Вяч. Иванова, женившийся на воспитаннице его жены… Любопытно, впрочем, что лучшее русское стихотворение о Ментоне написано не одним из них, а малоизвестным одесским поэтом, идеологом издательства «Полигимния», Леонидом Баткисом:
Под хриплый свист локомотива
Мелькают сонные поля.
Тебя страшит седая грива
Косматых дебрей ковыля.
Я знаю — жутки дали наши,
Темны леса, страшны моря.
Мы слезы пьем из брачной чаши,
И наша — вам чужда заря.
Но мы лелеем чувством брата
Чужой души и смех, и плач.
Мы отдаемся без возврата
Позору жалких неудач.
Моей душе, моей отчизне
Чужда, враждебна вновь и вновь, —
Ты все взяла от юной жизни,
О, мимолетная любовь!
И вот теперь — в окне вагона,
Где ветер с поля так душист,
Тебе пригрезилась Ментона
Под мерный бег, под хриплый свист.
И кроны пальм, и плеск фонтанов,
Огни, как пестрый серпантин,
Террасы пышных ресторанов
И трели звонких мандолин.
И слитный рев автомобилей
У белых вилл, у шумных зал,
Где до зари напев кадрилей
И вальсов пламенных звучал.
А нынче мнится сном кошмарным
Твой путь чрез русские поля,
И в лунном сумраке янтарном
Зловещий шорох ковыля.
Здешние визитеры, как правило, жили на виллах, которые в большей степени, чем отели, склонны к переименованию; из-за этого нынешние их названия и адреса установить мудрено. Приятное исключение – отель, гостеприимством которого пользовались Мережковские: он ничуть не изменился, только сделался из гостиницы жилым домом, после чего обнесся высоким забором с видеокамерами («Никаких историков литературы!»); впрочем, как бы в компенсацию статус гостиницы принял на себя бывший домик садовника. Мы жили совсем недалеко оттуда, в гостинице, требующей от посетителя серьезной памяти на числа: все здесь, как на военной базе, закрыто разными числовыми паролями: лифт, парковка, внешняя дверь, ворота – полное впечатление, что город находится в осаде.
Впрочем, настоящее осадное положение мы увидели на следующий день: синоптики в очередной раз развели руками, старожилы не припомнили – и все окрестности затянуло противными тучками, поливающими древнюю брусчатку мелким скучным дождем. Лучший рецепт в таких случаях – сесть в машину и ехать куда глаза глядят, тем более, что в замарселье обещали легкие просветления. Неожиданно нашлось и дело: высокочтимый
 molodiakov спросил, не будем ли мы
в Мартиге. Я легко признался в невежестве, быстро преодоленном –
это оказался маленький городок невдалеке от Марселя, где родился
поэт и критик Шарль Моррас: из далекой Японии пришло напутствие
сфотографировать его виллу и передать привет от биографа. Сказано –
сделано: узнаем адрес виллы на сайте муниципалитета и едем по
прекрасной дороге – Канны, Сан-Рафаэль, Сен-Тропе… не доезжая Экса
останавливаемся размяться и перекусить: во Франции заправки
сравнительно редки, но благоустроены с большим шиком – на этой,
например, сделана ботаническая тропа с экспликациями – и за каждой
табличкой с рассказом про цветок прозябает он сам, пыжась
произвести впечатление получше: в частности, наблюдали какой-то
орхис в фазе цветения (в горах они еще, как говорят садовники, «на
бутонах»). Вскоре после Марселя – поворот в натуральное чрево
Прованса: стоят огромные соцреалистические заводы, из труб клубами
восходит черный дым, а кругом на полях что-то потенциально
съедобное невозмутимо прорастает. Тучи тем временем разошлись, на
горизонте воздвигся ажурный мостик – и вскоре уже маленький Мартиг
засиял перед нами во всей своей красе. Позже выяснилось, что он
называется местной Венецией (так моя тема меня догнала) и не всуе:
весь он состоит из каналов и речушек, соединенных мостами, подчас
разводными: один из них удивительным образом восстал сразу после
нашего проезда, чтобы пропустить пыхтящую баржу.
molodiakov спросил, не будем ли мы
в Мартиге. Я легко признался в невежестве, быстро преодоленном –
это оказался маленький городок невдалеке от Марселя, где родился
поэт и критик Шарль Моррас: из далекой Японии пришло напутствие
сфотографировать его виллу и передать привет от биографа. Сказано –
сделано: узнаем адрес виллы на сайте муниципалитета и едем по
прекрасной дороге – Канны, Сан-Рафаэль, Сен-Тропе… не доезжая Экса
останавливаемся размяться и перекусить: во Франции заправки
сравнительно редки, но благоустроены с большим шиком – на этой,
например, сделана ботаническая тропа с экспликациями – и за каждой
табличкой с рассказом про цветок прозябает он сам, пыжась
произвести впечатление получше: в частности, наблюдали какой-то
орхис в фазе цветения (в горах они еще, как говорят садовники, «на
бутонах»). Вскоре после Марселя – поворот в натуральное чрево
Прованса: стоят огромные соцреалистические заводы, из труб клубами
восходит черный дым, а кругом на полях что-то потенциально
съедобное невозмутимо прорастает. Тучи тем временем разошлись, на
горизонте воздвигся ажурный мостик – и вскоре уже маленький Мартиг
засиял перед нами во всей своей красе. Позже выяснилось, что он
называется местной Венецией (так моя тема меня догнала) и не всуе:
весь он состоит из каналов и речушек, соединенных мостами, подчас
разводными: один из них удивительным образом восстал сразу после
нашего проезда, чтобы пропустить пыхтящую баржу.Но что прежде всего поражает в городе – это его мультикультурность. Я имею в виду, конечно, разные культуры отношения к чужой собственности: нигде в этих местах (кроме, может быть, некоторых кварталов Марселя) я не видел такого количества разбитых окон у машин и дверей у заведений. Ощущение весьма неуютное – поневоле стараешься отыскать парковку с видеонаблюдением, поближе к полицейскому участку или хоть как-то охраняемую; вотще! – тогда с неловким чувством ставишь машину рядом с той, что подороже, мысленно взывая к будущим грабителям не перепутать: можно бы, впрочем, воззвать и изустно, поскольку за каждым движением наблюдает компания праздных (или уставших от тяжелой работы) недружелюбных юношей.
По адресу, указанному на сайте, вместо виллы Морраса находится лишь ресторан с дверью, несущей на себе следы недавнего штурма, так что заготовленное приветствие пропадает втуне («Приезжаем как-то раз / Здесь родился Шарль Моррас? / Расскажите нам об этом без особенных прикрас»). Обходим здание кругом, потом расширяем область поисков – пусто! Едем в местный туристический офис – закрыто (поскольку воскресенье). Катаемся по улицам, гуляем, переставляем машину, фотографируем, перекусываем – увы, тайна виллы остается неразгаданной (и только уже дома, при помощи электронной карты и солдатской смекалки выясняем, что клятый муниципалитет радикально ошибся в номере дома). Впрочем, город остается приятным воспоминанием – и чувство несбывшегося очень ему к лицу.
На следующий день при ярком солнце и ощущаемых всей кожей 16-ти градусах тепла едем в горы. Готовясь к поездке, я внимательно с помощью картонного человечка из Google map осмотрел деревню Libre, где начинался маршрут («Circuit de Libre»; № 55) с одной стороны ее охранял черный пес, а с другой – черный кот, но вот дорогу я не разглядел, из-за чего чуть не вышел казус. Саму деревню навигатор не знает, но знает соседнюю; добравшись до нее, я увидел улицу Libri и решил, доверившись номинативному чутью, что она приведет к искомой. Змеясь медленным серпантином, дорожка делалась все хуже и хуже, пока не превратилась практически в тропинку, готовую исчезнуть, как в сказочном лесу – тут мы почуяли недоброе и, не без труда развернувшись, вернулись на исходное шоссе – и несколько километров спустя деревушка нашлась; более того, на месте был и обещанный пес; кот же развлекался перебежками по крышам стоящих машин.
Вся деревня – десяток домов и церковь; на главной площади было свободным парковочное место, так что мы, быстро собравшись, вышли на маршрут. По окружающей природе трудно сразу установить время года: мурава выглядит как летом, листопадных деревьев тут не много, а вечнозеленые пинии и оливы не информативны; только прислушавшись, чувствуешь, что нет насекомых – значит, зима. Хорошо размеченная тропка круто берет вверх через террасированную оливковую рощу и выводит в хвойный лес, по которому поднимается пологим серпантином; после трехсот метров подъема выполаживается и идет вдоль гребня невысокой горки с видом на заснеженные Mont Tron и Roche Fourquin (последняя уже на итальянской границе). Солнце печет так, что поневоле вспоминаешь свой напрасный скептицизм относительно крема от загара – впрочем, на такой высоте обгореть все-таки мудрено. Тропа окаймляет поверху большую долину, в которой лежат четыре деревушки, по преимуществу, кажется, скотоводческие – по крайней мере, с противоположного склона доносился звон колокольчиков, а в какой-то момент пожаловал и пастырь: огромная белая собака здешней пастушьей породы. Не подходя близко, она гавкала на нас из-за кустов – мы же объясняли ей, что категорически не интересуемся ее питомцами: на том и порешили.
Спускались вниз по противоположной стороне долины, мимо безмятежной деревни Cotte; каждый раз в таком месте примеряешь местную жизнь на себя – хотелось бы? Мог бы? Понятно, что заработок для чужака там невозможен в принципе, а занятия ограничены садоводством, писательством и чревоугодием – но не они ли суть покой и воля, заменяющие, как известно, счастье русскому литератору? Не надоедят ли эти бархатные, плюшевые холмы, видные из окна? Раскатистые переговоры Ксавье (соседа слева) с Жан-Полем (соседом справа), которые с годами будут делаться все понятнее (а потом наоборот)? Не слишком ли велико расстояние в шесть часов до ближайшей русской библиотеки? Впрочем, иносказательной метафорой бросились в глаза фруктовые деревья, чьи стволы перемотаны были колючей проволокой – интересно, от какого таинственного вредителя. Не в силах вообразить животное, которое лазит по деревьям и одновременно грызет их (разве что коза), мы спустились вниз к своей машине. Мальчик лет трех играл со своей моложавой бабушкой в мяч, время от времени звучно впечатывая его в чей-нибудь автомобиль; тогда дремавшая в деревянном кресле юная мать говорила ему укоризненно: «о, машина». Завидев чужестранцев, он будто стушевался, но, когда мы отъезжали, помахал мне рукой.
В долине Roya, где проходил маршрут, дорожное хозяйство устроено так, что ты беспрерывно попадаешь из Франции в Италию и обратно; обычно об этом свидетельствуют лишь дорожный знак и иногда (но, конечно, не в воскресенье) патрульная машина под ним. Рассуждая, насколько прозрачны границы в этой части Европы, мы медленно ехали по одной из маленьких дорог с четырехзначными индексами, собираясь вернуться в себе в Ментон не по широкой трассе, а через перевал, когда вдруг впереди показался автомобиль жандармерии – и произошла сцена, с которой я начал свое правдивое повествование. Казалось, я все делал, чтобы возбудить подозрения собеседников, отчасти помимо своей воли – и высшей точкой их сделался момент обнаружения в моем паспорте (а уже на сцену появился и он) иранской визы. «Иран?» «Да, исламская республика», - скромно подтвердил я. «Но что вы делали в Иране?». «Ходил в горы». «Непал? Чили?», - продолжал он, листая паспорт и, кажется, впервые осознавая, в каком большом мире мы живем. Товарищ ему что-то прошептал. «Ладно, все в порядке», - неожиданно погрустнел мой собеседник и вернул мне все документы. Признаться, я чуть не оторвал руль, удирая.
Маршрут следующего дня был поамбициознее, так что выехали мы из дома пораньше. На беду, Ментона готовится к неделе лимонных праздников, по случаю чего по всему городу воздвигаются трибуны, наводится лоск и строятся гигантские фигуры, окантованные специальными полостями, куда засыпаются тонны цитрусовых – для красоты и запаха. Один из этих монументов монтировался над поворотным кругом, где мне надо было уйти на второй выход, а я, засмотревшись, его проскочил и выехал в третий. «Пустяки», - успокоил меня обычно столь требовательный навигатор, - «поедем другой дорогой, их тут полно». Это было роковой ошибкой.
Битый час мы крутились по извилистым дорожкам и тропинкам, переезжая с полуприличного шоссе на замшелую route strategique, где приходилось разъезжаться, опасно нависая над пропастью, с шальным грузовиком, пока наконец проклятый электросусанин не доставил нас к закрытой на зиму дороге. Теоретически можно было попробовать проехать и по ней, но велик был шанс, что через несколько километров либо встретится шлагбаум, либо она поднимется выше 1500 метров и покроется снегом (цепей у нас не было): ехать же по горной извилистой обледенелой дороге на заднеприводной тяжелой машине с летней резиной – крайне нездоровое занятие. Поэтому пришлось теперь с помощью карты проложить альтернативный план, оттянувший еще почти час и уже после полудня мы остановились в удивительно неприветливой на вид деревушке La Villette (маршрут «Madone d'Utelle»; № 37).
Сразу за деревней тропа резко берет вверх, проходя через оливковые рощи к молодому дубняку, где устроены несколько засидок на кабанов. Поднявшись примерно на 400 метров, она идет по каменистому уже безлесному склону, по-прежнему ощутимо поднимаясь. Отсюда уже открываются замечательные виды на долину реки Vesubie, причем с какого-то момента видно и море, куда она впадает. Перейдя через Овечий ручей (впрочем, таковой имеется здесь на каждой горе) и перевалив через холм с задорным именем Huesti, путник оказывается перед цепью более высоких и сплошь белых гор, самые впечатляющие из которых – на итальянской стороне. Здесь нам встретилось растянувшееся навстречу овечье стадо, возглавляемое умной и спокойной собакой; его пугливые арьергарды попадались нам еще чуть не полчаса, причем иным из них приходилось уступать дорогу, до того они робели и дичились. Дальше маршрут лежит через каштановый лес, причем с ощутимым спуском, так что, пройдя через долину, оказываешься перед четырехсотметровой стеной, подразумевающей резкий подъем. Довольно легко его преодолев, перед самым плато, встречаем пастуха, мирно наблюдающего за пасущейся в нескольких километрах от него паствой; здесь же спит белый славный пес и грызет косточку небольшая черная собачонка. Маршрут заканчивается у церкви Madone d'Utelle – сама она XIX века, но построена на месте предшественницы, которую десять веков назад воздвигли тут испанские моряки. Внутри – милейшая эклектика: примитивные, но яркие витражи, православная икона, какие-то изделия местных мастеров – и ни одной живой души. Вторая и последняя достопримечательность здесь – беседка, сооруженная в 1933 году французским альпийским союзом – и в ней дивной красоты фаянсовая (кажется) монументальная шпаргалка, на которой подписаны названия всех окрестных вершин.
Возвышенному созерцанию мешает одно обстоятельство: на часах около трех, спускаться обратно нам 850 метров, а темнеет в половине шестого; конечно, в рюкзаке у меня на такой случай всегда есть налобный фонарик, но все-таки лучше было бы успеть засветло. Поэтому, практически не присев, начинаем идти вниз и благополучно прибываем к машине за несколько минут до наступления сумерек.
Самолет, ждавший нас следующим утром, носил благородное имя Н. Миклухо-Маклая – и, вероятно, из свойственного прототипу упрямства слегка изменил маршрут. «Сейчас мы пролетим Милан», - сказал пилот, - «потом Венецию, а после возьмем курс на Вену и Минск». Сквозь сплошную пелену облаков я не мог разглядеть, но совершенно без труда воображал единственные в своем роде черты – и, выше многого ценя закольцованность сюжета, без обычного огорчения вернулся к ненадолго оставленной работе.
|
|
</> |

 Пенсионный возраст и система выплат в Испании
Пенсионный возраст и система выплат в Испании  Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей! (с)
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей! (с)  Тарелочники в Японии.
Тарелочники в Японии.  Ст.м. Авиамоторная (Большая кольцевая линия). Северный вестибюль
Ст.м. Авиамоторная (Большая кольцевая линия). Северный вестибюль  Вышел сборник "Фантастическая история", в котором - 3 моих рассказа!
Вышел сборник "Фантастическая история", в котором - 3 моих рассказа!  Старый Новый год. Мысли о 2025 и непричесанные комментарии к чужим прогнозам.
Старый Новый год. Мысли о 2025 и непричесанные комментарии к чужим прогнозам.  Шиповник
Шиповник  Контрольная точка: Полночь
Контрольная точка: Полночь 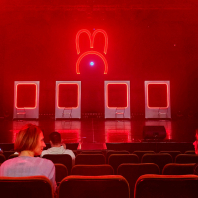 Театральный квартет "Заячий стон" продолжает отжигать: новый спектакль "Маршрут
Театральный квартет "Заячий стон" продолжает отжигать: новый спектакль "Маршрут 



