Почему у КНР получилось то, что не получилось у СССР
 new_rabochy — 24.04.2025
new_rabochy — 24.04.2025
Некоторые задаются вопросом, почему у КНР получилось то, что не получилось у СССР, например обогнать США по ВВП по ППС.
Начнём с того, что Китай начал с гораздо более низкой базы, чем СССР. Взглянем в таблицы Мэддисона:

Китай в 1950 году имел ВВП на душу (в долларах 1990 года) 448 долларов, в то время как в Российской империи в 1913 году 1488 долларов. Даже в 1973 году ВВП на душу КНР 838 долларов. Другими словами, Китай даже при позднем Мао был в среднем беднее чем Россия до революции. Кроме того, в 1978 году доля городского населения в Китае в 1978 году была 17,92%, то есть также примерно на уровне дореволюционной России.


Таким образом, КНР в начале реформ была очень бедной крестьянской страной. Она могла предложить для мирового рынка огромный резервуар дешёвой рабочей силы, которой уже не мог предложить СССР.
Если говорить о стоимости рабочей силы, то китайский экономист Джастин Ифу Линь пишет: «В начале 1980-х годов городское домохозяйство должно было иметь «три большие» вещи (наручные часы, швейная машинка и велосипед). <...> К концу 1980-х «три большие вещи» обходились в 5000 юаней, на такую покупку обычной семье приходилось копить». Такой уровень жизни в СССР был где-то в 1950-х, если не раньше. Для СССР 1980-х «большие вещи» для городской семьи это квартира, машина, дача, то есть уровень жизни в нашей стране того времени был на порядок выше, чем в КНР. Ясно что конкурировать за иностранные инвестиции с дешёвыми китайскими рабочими руками советские люди в тот момент никак не могли, а если вспомнить ещё и более суровый северный климат и удалённость большей части территории от морей, то очевидно, что у нас не было шансов.
Но может быть шансы были у СССР времён НЭПа, когда демография и стоимость рабочей силы в России были сопоставимы с китайскими? Теоретически да, шансы были, но тут вмешались внешние факторы.
Период развития мировой экономики в условиях современного экономического роста, который приходится на 1914–1950 годы. Это время глубокого кризиса: две мировые войны, экономические потрясения конца 20‑х – начала 30‑х годов, спровоцированные многими факторами, в числе которых и кризис золотовалютного стандарта. Снижаются темпы роста мировой торговли и ее доли в ВВП, растет протекционизм, широкое распространение получают запретительные тарифы. Все это прокладывает дорогу торговым войнам, конкурентной девальвации национальных валют, приводит к свертыванию мирового рынка капитала, широкому распространению ограничений на валютные операции.
Движение в сторону протекционизма не было универсальной чертой этого периода. П. Байрох обращает внимание на попытки вернуться к более либеральному торговому режиму в 1927–1928 годах. Но после введения США в июне 1930 года протекционистского тарифа уровень таможенных пошлин в мире достигает беспрецедентной высоты. К концу 1931 года 25 ведущих участников международной торговли в ответ повышают свои пошлины на американскую продукцию. Пошлины на продукцию обрабатывающей промышленности составляют в среднем 45–50 % и превышают предшествующий пик 1891–1894 годов на 5–10 %. За 3 года (1929–1932) объем мировой торговли сократился номинально на 70 %, в реальном выражении – на 25 %.
Поворот к протекционизму, ограничению торговли, закрытию рынков капитала меняют условия развития для стран догоняющей индустриализации. Те из них, которые в предшествующий период ориентировались на интеграцию в мировой рынок и имели высокую долю внешней торговли в ВВП, оказываются в наиболее сложном положении. Когда страны-лидеры играют по протекционистским правилам, развитие на основе политики свободной торговли оказывается малопродуктивным. Успех приносят другие стратегии – ориентация на автаркию, закрытие рынка, государственное регулирование экономики. При том что сталинская индустриализация сопровождалась масштабным экспортом зерна и импортом машин и оборудования, в целом она основывалась на политике автаркии. Для правительств многих развивающихся стран на долгие десятилетия она стала образцом для подражания.
То есть никакой возможности для привлечения иностранных инвестиций в промышленность с последующим сбытом произведённых товаров в развитые страны у СССР в 1920-е — 1930-е годы не было, поэтому современная китайская модель для нас тогда была закрыта.
С конца 40‑х – начала 50‑х годов глобальная экономика вступает в следующую фазу развития. Завершение Второй мировой войны дало возможность Западной Европе и Японии использовать накопленный в США технологический потенциал, одновременно получив американские инвестиции и кредиты, а также доступ на внутренний рынок США. В течение 23 лет (1950–1973) мировая экономика демонстрирует аномально высокие среднегодовые темпы роста ВВП: 4,91 против 1,85 % в 1913–1950 годах (рост душевого ВВП составил соответственно 2,93 и 0,91 %). Международная финансовая система перестраивается на базе бреттон-вудских институтов.
В рамках Генерального соглашения о тарифах и торговле предпринимаются согласованные усилия стран западного блока по снижению уровня тарифной защиты, либерализации мирового рынка, отказа от прежней политики, направленной на жесткое ограничение тарифного суверенитета менее развитых стран. Средний таможенный тариф в странах ОЭСР снижается с почти 11 % в 1950 году до 6 % в конце XX в.
Ограничения валютных операций отменяются, восстанавливается конвертируемость валют стран – лидеров экономического роста сначала по текущим, а затем и по капитальным операциям.
Еще одно отличие глобального мира конца XX в. от предыдущего периода современного экономического роста: мировая денежная система уходит от золотовалютного стандарта. Последние связи обрываются в 1971 году, когда США отказались обменять на золото американские доллары, предоставленные им иностранными центральными банками. Теперь большая часть денежных расчетов базируется на бумажных валютах с плавающим курсом.
Перемены в глобальной экономике радикально трансформируют условия, в которых странам догоняющего развития приходится вырабатывать национальные стратегии роста. В середине XX в. еще сильно влияние прежних тенденций в мировом развитии: протекционизма, свертывания мировой торговли. Поэтому столь популярна концепция импортозамещающей индустриализации, ориентированной на тарифную защиту промышленности, закрытие внутреннего рынка, государственный активизм. И только постепенно становится ясно, что ситуация в мире изменилась. Все более отчетливо проявляется, становится устойчивой тенденция к экспансии мировой торговли, открытию рынков, в том числе рынков стран-лидеров. Это предоставляло догоняющим странам возможность избрать новую стратегию, ориентированную на увеличение экспорта, интеграцию в мировую экономику. Одновременно развитые страны в конце 20 века всё больше делают ставку на перенос трудоёмких производств в бедные страны с дешёвой рабочей силой.
Именно в таких условиях Китай переходит к своему НЭПу и именно благодаря этой внешней конъюнктуре его внутренний потенциал экономического роста (прежде всего демографический) оказывается реализован.
|
|
</> |

 Как выбрать лучшего интернет-провайдера для дома по качеству соединения в России
Как выбрать лучшего интернет-провайдера для дома по качеству соединения в России  В пятницу у телевизора
В пятницу у телевизора  Мероприятие принцессы Уэльской
Мероприятие принцессы Уэльской  Учёные выяснили, зачем кошки следят за хозяевами, и это потрясающе..
Учёные выяснили, зачем кошки следят за хозяевами, и это потрясающе..  Без названия
Без названия 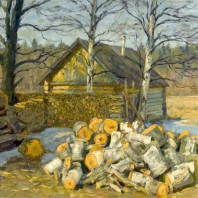 К людям с этой планеты: просьба
К людям с этой планеты: просьба  Что с отцом Меган
Что с отцом Меган  Тверское момидзигару-2. Последний тёплый день.
Тверское момидзигару-2. Последний тёплый день.  Отражение
Отражение 



