опять об не путать жанры искусства с видами искусств,
 mmekourdukova — 24.05.2020
..., не говоря уж об не путать то и другое
с образным месседжем.
mmekourdukova — 24.05.2020
..., не говоря уж об не путать то и другое
с образным месседжем.Тут девочки сплясали-как-умели на полянке, по поводу чего прот. П. Великанов выразился:
«Вот о чем надо в первую очередь побеспокоиться ревнителям традиций! Для меня подобные вещи в монастыре - и есть самый чистейший модернизм, разрушение основ Церкви и торжество беззакония!»
А френд мой тут же обличил протоиерея, припомнив ему прежние его печатные слова: «В моем понимании богословие — это сочетание двух условий. Первое — наличие собственного опыта духовной жизни и личных отношений с Богом. Второе — это способность транслировать этот опыт доступным образом. Причем не обязательно в слове, это может быть икона, театр, поэзия, проза, любое пространство искусства — даже танец».
обличение тут .
Какая тёткость мысли у обоих богословов.
Первый включил в список дозволенных «пространств искусства» икону, т.е. конкретный ЖАНР изобразительного искусства, но не включил само изобразительное искусство как таковое. При этом прочие пункты списка суть именно ВИДЫ искусства, но не жанры.
(отдельная вкусняшка - выражение опыта духовной жизни у прот. Великанова почему-то называется богоСЛОВИЕМ даже для невербальных способов выражения, но ладноуш, это можно отнести не на счет персонально великановской тёткости мысли, а на счёт тёткости фоновой, до сих пор не родившей достойного термина, так что все невербальные способы выражения опыта богопознания «у нас» хотя и называются «богословием», но выглядят каким-то недо-, унтер-, псевдо-, како- и, возможно, даже антибогословием.)
А второй богослов нашел противоречие в двух великановских тезисах. Дескать, раз уж ты признал танец как способ трансляции духовного опыта, то нефиг теперь высказывать своё «пфе» по поводу инокинь, художественно кувыркающихся на полянке под баян. Давай, дескать, или весь танец гуртом признавай, или уж
Впрочем, что это я? ах! опомнившись, беру обратно свои укоризны в нетёткости мысли. Это не нетёткость вовсе, а традиция.
Они же признают ВСЯКУЮ икону.
Термин «живопись» или «изобразительное искусство» им не нужен, и критерии, по которым живопись может быть признана/непризнана достойной иконой, тоже не нужны. И шкала восхождения от недостойного к достойному в изобразительном искусстве не нужна. Им довольно чоткого демаркационного забора между иконой и не-иконой, забор обеспечивает им тёткость мысли (вербально выраженной мысли, ога).
Вот так же у них и с танцем. Раз богослофф признаёт танец – пусть тогда ВСЯКИЙ танец признаёт! А если какой-то танец ему вдруг против шерсти, то он, сталбыть, просто позорно запутался в собственном богословии.
Всё, карочи, тётко прописано.

 Комфортное рабочее пространство: как правильно выбрать стулья для офиса
Комфортное рабочее пространство: как правильно выбрать стулья для офиса 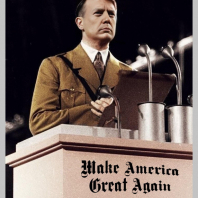 Спираль истории пронзает Палестину. У народов плохо с памятью?
Спираль истории пронзает Палестину. У народов плохо с памятью? 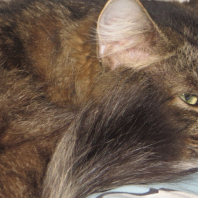 Пухновости
Пухновости  Облако или дым?
Облако или дым?  В Удмуртии открыта роботизированная ферма
В Удмуртии открыта роботизированная ферма  Рисование закончилось.
Рисование закончилось.  Готовимся
Готовимся  Новости с полей.
Новости с полей.  А вот это попробуйте
А вот это попробуйте 



