О феерических «успехах» разрушителей Российской империи в сфере
 otshelnik_1 — 07.07.2025
Признаться, мне жаль предыдущей большой
статьи.
otshelnik_1 — 07.07.2025
Признаться, мне жаль предыдущей большой
статьи.Жаль своего труда.
И поэтому я все же еще раз вывешу основное ее содержание, фрагменты воспоминаний руководителей и активных участников белого движения, но уже без пространных комментариев. Позволю себе лишь краткие пояснения-связки.
Это что-то вроде «Хрестоматии» по теме.
* * * * *
На совещании в ставке с участием членов Временного правительства 16 июля 1917 года А. Деникин напомнил о феерических «успехах» разрушителей Российской империи в сфере армейского строительства.
«Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие, а большевики (в данном контексте имеются в виду солдаты-бузотеры и шкурники – otshelnik_1) лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма. Развалило армию военное законодательство последних 4-х месяцев…»
Более того в «Очерках…» читаем:
«Было бы, однако, неправильно говорить о непосредственном влиянии печати на солдатскую массу. Его не было, как не было вовсе и популярных газет, доступных ее пониманию».
И, тем не менее, всю оставшуюся жизнь генерал чисто декларативно утверждал, что именно большевики разложили армию.
Генерал П. Краснов уже весной 1917 года вполне трезво оценивал ситуацию:
«Ясно было, что армии нет, что она пропала, что надо, как можно скорее, пока можно, заключить мир и уводить и распределять по своим деревням эту сошедшую с ума массу».
Ибо
«по всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы… Война замирала по всему фронту, и Брестский мир явился неизбежным следствием приказа №1 и разрушения армии. И если бы большевики не заключили его, его пришлось бы заключать Временному Правительству».
Но и Краснов потом тоже всю свою жизнь чисто декларативно обвинял большевиков в поражении РИ.
Видный кадет В. Набоков, соратник Гучкова и Милюкова свидетельствовал о ситуации начала марта 1917 года (большевики приедут в запломбированном вагоне только через месяц):
«Ни один мудрец ни тогда, ни позже не нашел бы способа закончить войну без колоссального ущерба — морального и материального — для России».
«Я помню, что его (Гучкова) речь в заседании 7 марта 1917 года… дышала такой безнадежностью, что на вопрос, по окончании заседания, «какое у вас мнение по этому вопросу?», я ему ответил, что, по-моему, если его оценка положения правильна, то из нее нет другого выхода, кроме необходимости сепаратного мира с Германией.»
И при этом, по свидетельству Набокова, лидеры Февраля в своем узком кругу рассуждали вполне цинично: единственно возможная дорога большевиков в Россию – через Германию - давала возможность убить сразу двух зайцев: они дискредитировали своих противников и в то же время могли свалить на них последствия собственноручного разрушения Российской империи.
* * * * *
Но каковы позднее были результаты армейского строительства, начатого уже самим генералом Деникиным?
Его антисоветский конкурент генерал П. Краснов, которого вынудили передать Деникину Войско Донское, на начало 1919 года оценивал достижения самого Антона Ивановича так:
«Деникин опирался на офицерские добровольческие полки. Солдатам он не верил, и солдаты не верили ему. Армия не имела правильного снабжения, не имела точных штатов, не имела уставов. От нее все еще веяло духом партизанщины, а партизанщина при возникновении красной почти регулярной армии была неуместна…
…Добровольцы были плохо одеты (это было еще до начала поставок Антанты – otshelnik_1), плохо дисциплинированы, они не были войском, и хотя Деникин уже владел тремя громадными губерниями, он ничего не создал, и Атаман боялся, что он не только ничего не создаст в будущем, но развалит и созданное…»
Архив Русской революции (АРР). Т.7, С. 278-279.
Примечательно, что эту нелестную оценку Краснова подтверждает и сам Деникин:
«Войска были плохо обеспечены снабжением и деньгами. Отсюда — стихийное стремление к самоснабжению, к использованию военной добычи. Неприятельские склады, магазины, обозы, имущество красноармейцев разбирались беспорядочно, без системы».
Это и есть то, что Краснов справедливо назвал «партизанщиной».
«Армии скрывали запасы от центрального органа снабжений, корпуса — от армий, дивизии — от корпусов, полки — от дивизий...»
Похоже, Краснов особо не преувеличивал:
«Армия не имела правильного снабжения, не имела точных штатов, не имела уставов.
…Добровольцы были плохо дисциплинированы, они не были войском…»
Из рапорта генерала Врангеля.
«Сложив с себя все заботы о довольствии войск, штаб армии предоставил войскам довольствоваться исключительно местными средствами…
Война обратилась в средство наживы, а довольствие местными средствами – в грабеж и спекуляцию...
Каждая часть спешила захватить побольше... Некоторые части имели до двухсот вагонов под своими полковыми запасами...
Огромное число чинов обслуживало тылы. Целый ряд офицеров находились в длительных командировках по реализации военной добычи Армия развращалась...
В руках всех тех, кто так или иначе соприкасался с делом «самоснабжения», оказались бешеные деньги, неизбежным следствием чего явились разврат, игра и пьянство... Пример подавали некоторые из старших начальников, гомерические кутежи и бросание бешеных денег которыми производилось на глазах всей армии».
АРР. Т.6. С. 135.
Деникин этого не отрицает:
«После славных побед под Харьковом и Курском 1-го Добровольческого корпуса тылы его были забиты составами поездов, которые полки нагрузили всяким скарбом до предметов городского комфорта включительно...»
«Победитель большевиков под Харьковом генерал Май-Маевский широким жестом «дарил» добровольческому полку, ворвавшемуся в город, поезд с каменным углем и оправдывался потом: — Виноват! Но такое радостное настроение охватило тогда...
Можно было сказать a priori, что этот печальный ингредиент «обычного права» — военная добыча — неминуемо перейдет от коллективного начала к индивидуальному и не ограничится пределами жизненно необходимого.»
Деникин, вынужден признать: чтобы принудить «инертную массу» к активным боевым действиям, считалось нормой посулить ей отдать на поток и разграбление занимаемую территорию.
Кстати, Краснов прямо и откровенно признавал, что его казаков, которые позднее составили основной ударный кулак деникинской армии, привлечь в поход на Москву можно было исключительно перспективой грабежа.
Подтверждение этому с яркими примерами мы находим и в деникинских "Очерках..."
В конце 1918-го ПМВ закончилась, и Антанта буквально завалила белых теперь уже ненужным ей военным имуществом (естественно, не даром).
Деникин:
«Не только в «народе», но и в «обществе» находили легкий сбыт расхищаемые запасы обмундирования новороссийской базы и армейских складов... Спекуляция достигла размеров необычайных, захватывая в свой порочный круг людей самых разнообразных кругов, партий и профессий: кооператора, социал-демократа, офицера, даму общества, художника и лидера политической организации».
При этом
«тыл не мог подвезти фронту необходимого довольствия, и фронт должен был применять широко реквизиции в прифронтовой полосе…»
Причины, по которым «тыл не мог подвезти фронту» ничего, изложены в признания типичного железнодорожного военного коменданта, занимавшегося в основном «оказанием услуг».
«По его же собственному рассказу услуги состояли в том, что в вагонах вместо снарядов, одежды и продовольствия для добровольческого фронта, везли товары, принадлежащие спекулянтам. Фронт в то самое время замерзал и голодал где-то за Орлом, не получая из глубокого тыла ничего…
На фронте не хватало даже снарядов. А комендант со своими сотрудниками везли мануфактуры, парфюмерию, шелковые чулки и перчатки, прицепив к такому поезду один какой-нибудь вагон с военным грузом или просто поставив в один из вагонов ящик со шрапнелью, благодаря чему поезд пропускали беспрепятственно, как военный.
Сам полковник и другие, ему подобные, в то же время дрожали от страха при мысли о победе большевиков; кричали во сне спросонья; но – красть и губить тем самым свою последнюю надежду, фронт, продолжали».
АРР. Т. 7. С. 213-214.
Деникин о том же:
«Казнокрадство, хищения, взяточничество стали явлениями обычными, целые корпорации страдали этим недугом… Так, железнодорожный транспорт стал буквально оброчной статьей персонала. Проехать и отправить груз нормальным путем зачастую стало невозможным. В злоупотреблении проездными «литерами» принимали участие весьма широкие круги населения».
«Просто так» исполнять свои обязанности «за жалование» никто не желал. Хотите перевезти боеприпасы или обмундирование на фронт? Платите столько же, сколько платят коммерсанты за перевозку расхищаемого ими «союзнического» добра.
Новороссийский журналист оставил колоритную зарисовку т. н. «черной орды» - сообщества спекулянтов, оккупировавших местный «Бродвей».
«Тут можно было приобрести разрешение на ввоз и вывоз, плац-карту до Ростова, билет в каюту на пароходе, отдельный вагон и целый поезд, специально предназначенный для военного груза на фронт. Здесь торговали медикаментами и целыми партиями снаряжения, в бесплодном ожидании которого добровольцы замерзли под Орлом и Харьковом целыми дивизиями.
…Само собой не надо делать вывода, что среди «черной орды» не было людей с офицерскими и генеральскими погонами, с металлическими венками на георгиевской ленте за знаменитый «ледяной» поход»; людей с золотым оружием и на костылях. Спекулировали в Новороссийске все: телефонные барышни и инженеры, дамы-благотворительницы и портовые рабочие, гимназисты и полицейские, священники и «торгующие телом». Спекулировали старики и дети, инвалиды на костылях и семипудовые толстосумы, последний нищий и первый богач. Спекулировали даже представители высшей гражданской и военной администрации.»
АРР. Т. 7. С. 224.
По воспоминаниям деникинского военного юриста, соответствующими были и умонастроения деникинских офицеров.
«Почти каждый из них старался «запастись на черный день». И, Боже, что здесь творилось! По пути захватывались целые вагоны с сахаром, спиртом и керосином, а иногда устраивались просто-таки набеги на сахарные заводы, и все это распродавалось на следующих станциях… Особенно отличалась молодежь, она была неизлечимо больна недугом спекуляции. Я видел часто, как собравшись вечером в общей столовой после «трудового дня», они, не стесняясь, считали свои миллионы. А какие при этом высказывались убеждения – страшно вспомнить. Понятия морали, нравственности и просто человечности здесь отсутствовали».
И вот вам еще один печальный анекдот про «Вовочку», но уже от деникинского юриста.
«Это тлетворное влияние не прошло мимо и детей: я был свидетель, как 15-летний кадет «Вовочка», прикомандированный к нашему огнескладу, играя в азартные игры, ставил в банк по 20-30 тысяч. Откуда могли быть такие деньги у мальчика? Очевидно, в этом обогащении играли немалую роль его таинственные экскурсии с солдатами по ночам в еврейские местечки при наших остановках на станциях».
АРР. Т. 9. С. 233.
В. Шульгин нервно рефлексировал в «1920-м».
«Это был хорошенький мальчик, лет семнадцати-восемнадцати. На нем был новенький полушубок. Кто-то спросил его:
— Петрик, откуда это у вас.
Он ответил:
— Откуда? «От благодарного населения» — конечно.
И все засмеялись.
…Кто это «все»? Такие же, как он. Метисно-изящные люди русско-европейского изделия. «Вольноперы», как Петрик, и постарше — гвардейские офицеры, молоденькие дамы «смольного» воспитания...
Они смеются над тем, что это население «благодарно» — т. е. ненавидит!
…Вытащив полушубок из мужицкой скрыни, он доказал, что паны только потому не крали, что были богаты, а, как обеднели, то сразу узнали дорогу к сундукам...
Я понял, что не только не стыдно и не зазорно грабить, а, наоборот, модно, шикарно…»
А в это же самое время красноармеец, на постое укравший у хозяйки рушник, рукавицы или траченный молью полушалок, был бы, скорее всего, расстрелян…
Деникин:
«Чувство долга в отношении отправления государственных повинностей проявлялось очень слабо. В частности, дезертирство приняло широкое, повальное распространение. Если много было «зеленых» в плавнях Кубани, в лесах Черноморья, то не меньше «зеленых» — в пиджаках и френчах — наполняло улицы, собрания, кабаки городов и даже правительственные учреждения. Борьба с ними не имела никакого успеха. …Регулярно поступали смертные приговоры, вынесенные каким-нибудь… ярославским, тамбовским крестьянам, которым неизменно я смягчал наказание; но, несмотря на грозные приказы о равенстве классов в несении государственных тягот, несмотря на смену комендантов, ни одно лицо интеллигентно-буржуазной среды под суд не попадало. Изворотливость, беспринципность вплоть до таких приемов, как принятие персидского подданства, кумовство, легкое покровительственное отношение общественности к уклоняющимся, служили им надежным щитом.»
Сам Деникин вынужден был признать, что уходили белые под проклятия населения.
«Народ встречал их с радостью, на коленях, а провожал с проклятиями...» Так формулируют часто приговор над белым прошлым. С проклятиями!.. Не потому ли, что мы — побежденные — уходили, оставляя народ лицом к лицу с советской властью?»
Да не поэтому!
«Глухо волновалась и уходила с фронта Кубань…
Число зеленых, сорганизованных в целые армии, имевшие уже артиллерию, доходило только около Новороссийска до тридцати тысяч.
Но главное было все-таки – несочувствие населения. Что могли сделать красноречивые манифесты Деникина, когда в Валуйках плясал среди улицы с бутылкой в руках пьяный ген. Шкуро, приказывая хватать женщин, как во времена половецких набегов. Что могли поделать жалкие картинки «Освага», когда потерявшие голову генералы замораживали в степи целые армии, когда Екатеринослав был отдан ген. Корвин-Круковским на поток и разграбление, когда никто не мог быть уверен, что его не ограбят, не убьют без всяких оснований?!
…Обыватели замерли в страхе, горя ненавистью к добровольцам. Те видели это, с отчаянием сжимали в руках оружие, трепетали… Сказывались результаты произвола и хищничества…
В Новороссийске свирепствовал генерал Корвин-Круковский; наделенный неограниченными полномочиями генералом Деникиным, беспросыпно пьяный, сквернословящий, он был страшен».
АРР. Т. 7. С.236-237.
«Никто не мог быть уверен, что его не ограбят, не убьют без всяких оснований?!»
«Все, носившие английские шинели и подобие погон, ходили в Новороссийске, вооруженные до зубов; пускали в ход нагайки, револьверы и винтовки по всякому поводу и, как будто, никакой ответственности не подлежали. Ибо все остальное подозревалось в несочувствии, в измене добровольческому делу, в злостной большевистской или социалистической агитации, или хотя бы «в распространении ложных слухов»…
АРР. Т. 7, Стр. 233.
«…В районе генерала Деникина контрразведка представляла собой, … что-то ни с чем не сообразное, дикое, бесчестное, пьяное, беспутное. Главное командование, а вместе с ним и «Особое Совещание», т. е. Правительство, с своей стороны, казалось, делали, что могли, чтобы окончательно разнуздать, распустить эту кромешную банду провокаторов и профессиональных убийц.»
АРР. Т.9 С.232
Думаете, глава «Особого совещания» (правительства) генерал С. Лукомский отрицал это? Ни в малейшей степени.
«Деятельность контрразведки вызывала не только серьезные жалобы, но и всеобщее возмущение».
«На службу в контрразведку, нормально, шел худший элемент».
(АРР. Т.6. С. 152)
«Нормально», что шел «худший»? Или просто «худший» шел «нормально»?
«Стоило только какому-нибудь агенту обнаружить у счастливого обывателя района добровольческой армии достаточную, по его агента, понятию, сумму денег, и он мог учредить за ним охоту по всем правилам контрразведывательного искусства. Мог просто пристрелить его в укромном месте, сунуть в карман компрометирующий документ, грубую фальсификацию, и дело было сделано. Грабитель-агент, согласно законам (!), на сей предмет изданным, получал что-то около 80% из суммы, найденной при арестованном или убитом «комиссаре». Население было терроризировано и готово заплатить, что угодно, лишь бы избавиться от привязавшегося «горохового пальто…»
АРР. Т.7. С.233.
А что по поводу предъявленных обвинений скажет Деникин?
«За войсками следом шла контрразведка. Никогда еще этот институт не получал такого широкого применения, как в минувший период Гражданской войны. Его создавали у себя не только высшие штабы, военные губернаторы, почти каждая воинская часть, политические организации, донское, кубанское и терское правительства, наконец, даже... отдел пропаганды... Это было кaкoe-то поветрие, болезненная мания…»
Вдумайтесь! Контрразведку «создавали у себя»… все, кому не лень! Контрразведка не была иерархической организацией, она была сетевым явлением. Любая организация, даже самая маленькая и невоенная, могла создать свою контрразведку с правом выносить приговоры и приводить их в исполнение. И никакой управы на них не было.
Деникин:
«Эти органы, покрыв густою сетью территорию Юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа…»
Иногда? Да они для грабежа «густой сетью территорию и покрывали».
«Борьба с ними шла одновременно по двум направлениям — против самозванных (!) учреждений и против отдельных лиц. Последняя была малорезультатна, тем более, что они умели скрывать свои преступления и зачастую пользовались защитой своих, доверявших им начальников».
Какое осложнение! Преступники «умели скрывать свои преступления»!
Отданный ген. Корвин-Круковским на поток и разграбление Екатеринослав реально выглядел так.
«Легкой рысью проносились по проспекту сотни казаков; загорелые лица офицеров, часто мелькавшие беленькие Георгиевские кресты и бесконечный восторг, неимоверное счастье освобожденных людей.
…У всех была в душе одна скрытая молитва. «…Только бы довели свое святое и великое дело до счастливого конца».
…Но на утро другого дня восторженность сменилась досадливым недоумением…
Вся богатейшая часть города, все лучшие магазины были разграблены… Вышедшие с утра на улицу люди поспешили обратно по домам, и весь день по городу бродили темные люди, водившие за собой кучки казаков, и указывающие им наиболее богатые магазины. Грабеж шел во всю… Продолжавшиеся беспрерывно грабежи, совершенно произвольные аресты заставили видных в городе лиц обратиться лично к генералу Шкуро…»
Однако все обращения к генералам были напрасны. Город был, почти официально, хотя и негласно, отдан на поток и разграбление. И не на три дня, а бессрочно.
«…К частым дневным и ночным грабежам добавилось еще и повальное пьянство; казаки случайно открыли местонахождение двух огромнейших складов вина…
И круглые сутки весь гарнизон тащил из погребов вино…, напиваясь до полной потери сознания.
…В Екатеринославе творилось нечто кошмарное. Грабежи, пьянство и разгул в городе не унимались… Были случаи насилия.
Не было почвы под ногами. Контрразведка развила свою деятельность до безграничного дикого произвола, тюрьмы были переполнены, а осевшие в городе казаки продолжали грабить».
АРР. Т12. Стр. 91-94.
Или вот еще одно «освобождение» все того же многострадального Екатеринослава.
«Торжества не было. Исстрадавшееся население ничего хорошего не ожидало от пришедших избавителей, и смутные предчувствия оправдались.
Небольшие, где-то и кем-то потрепанные части генерала Слащева принялись за продолжение славного дела своих предшественников и пошли с грабежом по квартирам.
Кровью наливалось лицо от боли и стыда, когда в квартиры входили люди с офицерскими погонами на плечах и... нагло открыто и беззастенчиво грабили.
Попутно с грабежами слащевцы стали извлекать из больниц оставленных махновцами тифозных больных и развешивали их на оголенных деревьях.
Когда член управы Овсянников направился в штаб к Слащеву с намерением просить его приказа о прекращении этого варварства, ибо о грабежах уже не было и речи, т. к. они получили права гражданства и вошли в быт, Слащев его не принял только потому, что, как сознался один из штабных офицеров, генерал пятый день, не переставая, пьет и совершенно одурел». АРР. Т. 12. С. 98.
Надеюсь, понятно, что отдать город или территорию «на поток и разграбление», это совсем не то же самое, что централизованно наложить контрибуцию.
Деникин:
«Боролись ли с недугом?
И сам отвечает – боролись, но
«…надо было рубить с голов, а мы били по хвостам…»
Что же с голов не рубили-то? А может, надо было так?
Вот тот же самый Екатеринослав, но в начале 1919 года, когда туда вошла Красная армия.
«…Красноармейцы производили необычайно дисциплинированное впечатление. Красноармейское офицерство по виду ничем не отличалось от обычного… Солдаты держались в страхе и повиновении... Выделялись китайцы, которые пытались грабить: после нескольких расстрелов на месте преступления они притихли».
АРР. Т3. С. 240.
И те же самые казаки, что бесчинствовали в Екатеринославе летом 1919 года при Корвин-Круковском, спустя год проходили через город на польский фронт уже в составе Красной армии.
«С трепетом ожидали мы прихода старых знакомых, ожидая новых грабежей. Но каково было видеть, когда беспрерывной лентой в течение трех дней шли казаки через город, останавливаясь застрявшей к ночи частью на ночлег в городе, и не только ни одного ограбления, но ни одного выкрика не было слышно.
В старые квартиры на несколько минут, «чтобы повидаться», заворачивали бывшие добровольческие хорунжие, сотники и есаулы, без погон, но с какими-то нашивками на рукавах.
За три дня… прошло свыше сорока пяти тысяч всадников, и те же казаки, которые всего только год назад день и ночь грабили город, сейчас проехали по городу, как лучшая из лучших дисциплинированных армий».
АРР. Т12. Стр. 118.
Если на польском фронте у какой-либо казачьей части просыпались «деникинско-бандитские» наклонности, то ее мгновенно окружали буденовцы, латышские стрелки и/или другие надежные подразделения. Грабителей и насильников разоружали под стволами пулеметов. Затем их заставляли выдать зачинщиков, с которыми, понятное дело, не церемонились. А дальше: либо использовали их под жестким присмотром, либо раскассировали по другим частям.
В. Шульгин в «1920-м» вспоминал свой разговор с ген. А. Драгомировым о полном разложении белой армии, о гвардии, «которая «покрыла позором свои славные знамена грабежами и насилиями над мирным населением». –
«…Я с очень близкими людьми перессорился из-за этого. Я пробовал собрать командиров полков, уговаривал, взывал к их совести. Но я чувствую, что не понимают... А я не могу с этим помириться
- Да, я помню... Вы сказали тогда, в октябре 1918 года: "Мне кажется, нужно расстрелять половину армии, чтобы спасти остальную"...
- Я и сейчас так думаю. Но как за это взяться? Я отдавал самые строгие приказы... Но ничего не помогает, потому что покрывают друг друга...
- Мое мнение такое. Вслед за войсками должны двигаться отряды, скажем, "особого назначения"...Тысяча человек на уезд отборных людей или, по крайней мере, в "отборных руках". Начальник отряда становится начальником уезда... При нем военно-полевой суд... Но трагедия в том, откуда набрать этих "отборных"...
- В том-то и дело...»
* * * * *
Окончательно спившийся в хлам жестокий коррупционер Май-Маевский (именно о нем упоминал генерал Врангель в своем рапорте).
Слащев, уходивший в запои до полного одурения.
Свирепый, сквернословящий и беспросыпно пьяный генерал Корвин-Круковский…
Зрелище печальное…
Один советский военспец перебежал к колчаковцам, и белое командование, чтобы хоть как-то подтянуть дисциплину, заставило его читать лекции своим офицерам о состоянии дел в Красной армии. Белые офицеры этого перебежчика возненавидели, особенно их возмутило его заявление о том, что появление пьяного командира или бойца в Красной армии было невозможно, поскольку его на месте расстрелял бы комиссар.
«Большевистский агент» замахнулся на святое!
Еще об одной «святой стороне» белого движения не так давно вспоминал А. Ткачев. Он отметил удивительный «парадокс».
Митрополит Вениамин, окормлявший врангелевский Крым и его воинство, пытался хоть как-то понизить лютый накал матерной брани в среде «белых витязей». Но успеха не имел от слова «совсем». Генералы Врангель и Шатилов сочли его стремление оторванным от жизни чудачеством.
И в то же самое время, поражается Ткачев, по другую сторону линии фронта, в Красной армии был издан приказ о расстреле на месте за матерную брань на фронте.
А митрополит Вениамин не смог протолкнуть даже ни к чему не обязывающее воззвание. «Белые витязи» этого просто не поняли бы.
И Ткачев, понятное дело, ассоциирующий себя с белым движением, буквально поражается этому необъяснимому, с его точки зрения, «парадоксу»: большевики, которые представляются ему «блудницей вавилонской, едущей на звере», поступили в данном случае именно так, как положено было поступить святому воинству.
Все парадоксы сразу исчезают, если мы примем за истину, что в гражданскую «на звере ехали» именно белые, именно те, от кого сегодня многие так сладко фанатеют.
Вот только истина этих фанатов не интересует от слова «совсем».
Отсюда и «парадоксы».
P. S.
Ткачев, как фанат белого движения, сегодня умиляется жизни белых эмигрантов, законопослушной, «православной» и полной ностальгии по Родине.
Так ведь, мил человек…
Они жили не в лоне ими созданной государственности – ВСЮР (Вооруженных сил юга России).
Они жили в порах чужой государственности с хорошо отлаженными механизмами, в которой была своя полиция (а не «государственная стража», «состоявшая из профессиональных убийц»), служба безопасности – «сюрте женераль» (а не «деникинская контрразведка», «что-то дикое, бесчестное, пьяное, беспутное»), своя судебная система (а не «система военно-полевых судов» и расстрелов «при попытке к бегству»).
Во Франции им никто не позволил бы развешивать по деревьям на Елисейских Полях своих политических противников.
Им не позволили бы вести себя по отношению к французам так, как они вели себя по отношению к «русскому мужичью».
И, кстати, Париж им на поток и разграбление никто бы не отдал.

 Как избавиться от сухости глаз вечером
Как избавиться от сухости глаз вечером 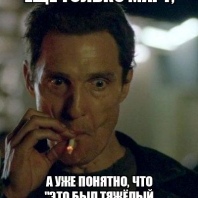 Как в английском выражаются русские оттенки "ещё", "уже" и "только"
Как в английском выражаются русские оттенки "ещё", "уже" и "только"  25 уличных фотографий Луки Реголи, которые вас позабавят и удивят
25 уличных фотографий Луки Реголи, которые вас позабавят и удивят 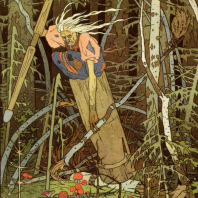 "Я была навеселе и летала на метле..." (с)
"Я была навеселе и летала на метле..." (с)  Румыния приобретает израильский зенитный ракетный комплекс SPYDER AiO
Румыния приобретает израильский зенитный ракетный комплекс SPYDER AiO  «За последней чертой»: тело против сознания в фотопроекте Сандро Джордано
«За последней чертой»: тело против сознания в фотопроекте Сандро Джордано  007, №3
007, №3 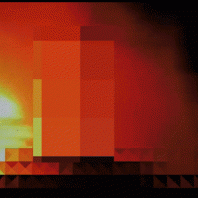 "Лесополосы завалены телами": Под Сумами контрудар ВСУ. Осенью будет
"Лесополосы завалены телами": Под Сумами контрудар ВСУ. Осенью будет  В ВСУ оскорбились после слов Зеленского о демобилизации...
В ВСУ оскорбились после слов Зеленского о демобилизации... 



