
О дневниках Дедкова, которые использовала Лента.вру
 burckina_new — 11.02.2017
Для очередного оплевывания жизни в СССР. Характерно, что сам автор
неожиданно умер в 1994 году, не дожив до 60 лет, невписавшись в
рыночный "рай" и полные прилавки:
burckina_new — 11.02.2017
Для очередного оплевывания жизни в СССР. Характерно, что сам автор
неожиданно умер в 1994 году, не дожив до 60 лет, невписавшись в
рыночный "рай" и полные прилавки:Большую часть своей жизни костромской писатель Игорь Дедков вел дневник. С 1950-х годов он записывал то, как ухудшается ситуация с доступностью продуктов и других потребительских товаров в своем городе.»
В 1992-м он свел свои записи в книгу, однако не успел ее опубликовать, умер в 1994 году. Его зарисовки советской жизни позволяют увидеть социалистический быт глазами очевидца.»
Это и есть комментарий, задача которого заранее настроить читателя строго определенным образом. Ему, в частности, сообщают, как непреложную истину, что «ситуация с доступностью продуктов и других потребительских товаров» постоянно ухудшалась (подразумевается, что по всей стране). Однако это утверждение крайне далеко от истины. Оно страдает свойственной буржуазной пропаганде односторонностью (прием № 1), во-первых, и недиалектическим подходом к оценке явлений и событий (прием № 2), во-вторых.
Дело в том, что никак нельзя сказать, что ситуация с доступностью потребительских товаров в СССР ухудшалась. Доступность — это понятие многогранное. Доступность определяется не только наличием самих товаров, но еще и способностью населения их купить. К тому же немаловажно, каких именно товаров — откровенного дерьма или тех, что люди хотят употреблять.
Как известно, сейчас в буржуазной РФ, как и во всех капиталистических странах, вот с этой самой доступностью дело обстоит просто отвратительно: товаров в магазинах с виду полно, но того, что людям надо, не купить, и не только потому, что у них нет на это денег, но и потому, что просто нет таких товаров — или нет совсем (невыгодно производить) или нет нужного качества, сплошь продается такое, чему место на помойке.
Иное дело в СССР. С качеством товара там вопросов не было никогда — оно было высочайшим. И поняли мы это, к сожалению, только сейчас, когда оказались по уши в капиталистическом дерьме. Могла «хромать» упаковка, это да, но нужна ли ее красота и привлекательность, если сам товар, который она предваряет, невозможно использовать? Вот то-то и оно!
Мы, советские граждане, в свое время и не подозревали о том, что можно производить, например, молотки, которыми нельзя ничего приколотить, потому что они от удара раскалываются сами (!), или колбасу, которую в рот не возьмешь, и которую отказываются есть даже кошки. Однако это факты капиталистической жизни, наша печальная реальность.
В Советском Союзе товары производились действительно для людей, чтобы их можно было использовать и использовать долго, а если сломались — то быстро и легко починить.
С деньгами на покупку товаров у советских людей тоже никаких проблем не было — денег было у всех в достатке. А если кому-то их не хватало, заработать было не проблема — безработицы в стране не существовало с 1931 года, когда закрылась последняя биржа труда. Про отсутствие у советских людей денег не заикается даже буржуазная пропаганда, настолько это очевидный для всех факт. Она все время упирает на одно и то же — на ассортимент в госторговле, мол, он был недостаточен, потому что иногда случались перебои с поставками, но при этом всегда умалчивает о том, что торговля в СССР осуществлялась не только (!) через государственные магазины.
Что ж, давайте разберемся с ассортиментом. Вопрос, а нужен ли он нормальным людям в нормальном обществе в таком виде, как он представлен при капитализме?
Ведь ассортимент при капитализме возникает вовсе не от желания капиталистов удовлетворить потребности покупателей — капиталистам на покупателя наплевать! Он возникает исключительно от частной собственности и жажды каждым частным собственником — производителем товара прибыли себе и только себе! Именно отсюда мы имеем сейчас 100 сортов колбасы, ни один из которых невозможно кушать. Или десятки моделей автомобилей, практически ничем, кроме мелочей во внешнем виде, не отличающихся друг от друга, но зачастую совершенно не удовлетворяющих запросы автолюбителей. Про бытовую технику можно вообще не говорить — ее, по сути, можно нести на помойку сразу после покупки, настолько она не соответствует тем требованиям, которые предъявляют к ней покупатели.
В Советском Союзе не нужно было создавать искусственно ряд аналогичных товаров одного и того же типа или вида, т.е. ассортимент ради прибыли или ради самого ассортимента. Делали то, что требовалось людям, функционально и экономно. Причем еще и рассчитывали сначала, сколько чего нужно — ведь экономика была не хаотичной, как сейчас, а плановой, то есть точно рассчитывающей потребности людей и отсюда — производство продукции, которая должна их удовлетворять.
Огрехи и недочеты в планировании были, и не могли не быть, ибо в СССР еще не было коммунизма, а был только социализм, первая, начальная стадия коммунизма, и две формы социалистической собственности, наличие которых уже не позволяло планировать экономику страны идеально. Тем более, что планирование — дело чрезвычайно сложное. Но, во-первых, никто не мешал совершенствоваться в нем. И во-вторых, что самое главное, зато никто в СССР не был голодным и обездоленным. В стране не было экономических кризисов с их товарным перепроизводством, когда произвели лишнего — то, что люди не могут или не хотят покупать, и когда того, что очень нужно, элементарно не хватает на всех.
Именно, на всех, поскольку для социализма это была главная задача — удовлетворение всех самых основных потребностей всех своих граждан. Это капитализм не интересуется тем, кто и как удовлетворяет свои потребности. А социализм ради этого и существует.
Говоря об «ухудшении ситуации с доступностью продуктов и других потребительских товаров» в СССР, журналист Карпов извратил суть дела. Вот так однозначно говорить о том, что все, что происходило в Советской стране с распределение потребительских товаров, никак нельзя, потому что процесс был совсем не таким простым и односторонним — он был многогранным.
С одной стороны, товарный ассортимент в стране постоянно расширялся, производство потребительских товаров неуклонно и в громадных размерах возрастало, потребности людей удовлетворялись все лучше и лучше. Иное дело, что эти потребности тоже увеличивались: получив одно, люди хотели большего и лучшего — других, более совершенных товаров или в еще большем их количестве, чем прежде, или удовлетворения таких потребностей, которых раньше у них и не было. Это нормально и закономерно, потому в основном экономическом законе социализма и указывается — «удовлетворение растущих потребностей».
С другой стороны, существование двух форм социалистической собственности, как в свое время и указывал Сталин, стало мешать советской экономике удовлетворять растущие потребности людей — она просто не поспевала за ними, будучи ограничена рамками устаревших производственных отношений, т.е. существованием отжившей свой исторический срок колхозно-кооперативной собственности. Последнюю необходимо было довести до уровня общенародной, и тогда развитие сельского хозяйства страны пошло бы вперед гигантскими темпами, а вместе с ним новый импульс для развития получила бы и советская промышленность.
То есть, проще говоря, чтобы далее удовлетворять растущие потребности людей, требовалось идти к коммунизму, а не стоять на месте или тем более пятиться назад, как, к сожалению, и делалось руководством страны, проводившим с середины 50-х годов правооппортунистическую политику. КПСС стала искать выход в рынке, когда следовало идти совсем в другую сторону — к коммунизму. В итоге планировать стало все сложнее и сложнее, дисбаланс в стране стал нарастать, потребности у людей росли, а удовлетворялись они не так хорошо, как могли бы удовлетворяться — для этого в СССР имелись все условия.
На бытовом уровне советское население стало ощущать этот конфликт производительных сил и производственных отношений в периодическом, хотя и кратковременном, исчезновении тех или иных продуктов из государственных магазинов. Подчеркиваем — государственных, ибо, если вести речь о продуктах питания, то в магазинах кооперативной торговли и на колхозных рынках всегда было все, даже в черные годы Перестройки, как мы уже выше говорили.
Далее Карпов в подкреплении своих тезисов приводит очередной «фото-факт», то есть фото с изображенной на нем небольшой очередью перед продовольственным магазином, которое должно как бы показать читателям, что просто так товары в советских магазинах было не купить, мол, только отстояв в больших очередях. Фото, как обычно, без указания года съемки. Место, правда, указано — г. Великий Устюг. Подпись под фото: «Очередь в продовольственный магазин в Великом Устюге». Вот оно:
 Для людей, незнакомых с советской жизнью, это
фото может показаться серьезным аргументом, доказывающим верность
утверждений Карпова. Но на самом деле никаким аргументом оно
являться не может, и тем более не может подтвердить слова Карпова
об «ухудшении доступности потребительских товаров» в СССР. Глядя на
фото, очень сложно сказать, стоят ли люди в очереди за продуктами
или же они просто ждут открытия магазина, например, после перерыва.
За последнее говорит тот факт, что мимо магазина проходят другие
люди, которые вовсе не стремятся встать в очередь за продуктами.
Это значит, что ни о каком «выбросе дефицита» в этом магазине речь
идти не может, иначе бы те, кто проходил мимо, непременно
воспользовались бы случаем купить то, чего они хотели бы купить, но
не могли ввиду отсутствия этого в магазинах.
Для людей, незнакомых с советской жизнью, это
фото может показаться серьезным аргументом, доказывающим верность
утверждений Карпова. Но на самом деле никаким аргументом оно
являться не может, и тем более не может подтвердить слова Карпова
об «ухудшении доступности потребительских товаров» в СССР. Глядя на
фото, очень сложно сказать, стоят ли люди в очереди за продуктами
или же они просто ждут открытия магазина, например, после перерыва.
За последнее говорит тот факт, что мимо магазина проходят другие
люди, которые вовсе не стремятся встать в очередь за продуктами.
Это значит, что ни о каком «выбросе дефицита» в этом магазине речь
идти не может, иначе бы те, кто проходил мимо, непременно
воспользовались бы случаем купить то, чего они хотели бы купить, но
не могли ввиду отсутствия этого в магазинах.
Далее в статье идут, наконец, выдержки из дневниковых записей Дедкова.
«1976 год. Мяса в городе нет, его продают по талонам, которые раздают в домуправлениях. Трудовые коллективы получают по 1 килограмму на работника, однако в магазинах отказываются его нарубать — одному из сотрудников просто дают тушу и говорят: «Рубите сами!» Некоторые отказываются, другие соглашаются.»
Речь, как видим, идет о государственных магазинах. О рынках и коопторгах Дедков не пишет ни слова. Значит, там мясо было, и было в достатке. Просто в госмагазинах оно было очень дешевым .
Кстати, свидетельство Дедкова говорит о том, что местная городская власть пытается решить проблему возникшего дефицита мяса — оно распределяется на всех, в том числе через трудовые коллективы, а значит те самые «простые граждане» вовсе не ущемлены, о них позаботились и обеспечили необходимым, жизненно важным продуктом. Заметим, что при капитализме по этому поводу никто даже не заморачивается — сдохнешь от голода, и ладно, «меньше народу — больше кислороду» (с).
«1977 год. Канун Дня Октябрьской социалистической революции. В магазинах нет туалетного мыла и конфет. Мяса, колбасы и сала нет давно — никто и не удивляется. Можно купить на рынке, но втридорога.»
То, о чем мы выше говорили, теперь подтверждает сам свидетель Карпова — Дедков. Продукты в СССР были. И никакого дефицита не было вообще, если уж говорить честно и смотреть на ситуацию в общем и целом. Дефицит тех или иных товаров иногда имел место только в госторговле.
Выражение Дедкова «втридорога» означает следующее: цена мяса 1 руб. 00 коп. — 1 руб. 50 коп. в госмагазинах, 2 руб. 50 коп. — 3 руб. 50 коп. за кг в коопторгах, 0 р. 90 коп — 4 руб. 00 коп — на рынках. По нынешним временам — ни о чем!
«Кофе нет, есть кофейный напиток из ячменя. Пить можно, но эффекта никакого.»
Ну, кофе все-таки не продукт первой необходимости. Его в пример можно было бы и не приводить. Хотя, если уж зашла о нем речь, то следует пояснить нашим читателям, что речь в записях Дедкова идет только о растворимом кофе. Натуральный в зернах, причем самых высоких марок, за который сейчас нужно отдать ползарплаты обычного рабочего, лежал даже в сельпо (сельских магазинах) и по копеечной цене. СССР же дружил со многими бывшими колониальными странами Азии и Африки, и элитного кофе, который на западе доступен только для богатых, в стране было полно. Иное дело, что натуральный кофе тогда почти никто не употреблял — гонялись за растворимым, московского производства. Аналогично обстояло дело с гаванскими сигарами, ромом, морепродуктами. Они стояли везде и всегда, стоили копейки, и никому были не нужны. Вот такие казусы советской действительности.
«В конторах собирают с каждого по 7-8 рублей на празднование Революции.»
Фраза Дедкова, требующая пояснений для нашей молодежи и тех, кто не знал реалии СССР. Это не сбор средств на государственное празднование или на официальное празднование на предприятиях. Для этого у советских предприятий и тем более советского государства деньги имелись всегда, и с работников никто никогда не просил ни копейки. Речь у Дедкова идет о так называемых «междусобойчиках», то есть о вечеринках, или попросту говоря, о застолье в трудовых коллективах, которые организовывались на широкую ногу — ведь праздник был немалый, главнейший в СССР. Вот на них и собирались эти деньги со всех, кто хотел участвовать. Многие приходили с женами. Единственное, что нас смущает, это сумма — уж очень она велика для того времени. Цены-то тогда были не чета нынешним. Килограмм мяса стоил в среднем 1 р. 20 коп. А на 10 рублей можно было шикарно погулять вчетвером в ресторане с выпивкой и едой от пуза. Потому мы не слишком удивимся, если Карпов позволил себе несколько преувеличить то, что на самом деле писал Дедков. Увы, в буржуазной России фальсификациями никого не удивить. Теперь это норма жизни.
«Сам видел, как в отделе комплектования областной библиотеки среди стоп новых книг на полу лежали грудами куры и стоял густой запах. Все ходили и посмеивались. Такая пора: все ходят и посмеиваются… На областном собрании физкультурного актива говорят, что местные штангисты не могут поддерживать должный режим питания, а значит, и хороших результатов от них ждать не стоит.»
Тоже никакого криминала здесь не видим. Даже напротив — что плохого в распределении продуктов по предприятиям? Тогда же все работали. Сидящих дома бездельников или безработных, как сейчас, не было. Значит, доставалось всем и, в первую очередь тем самым «простым трудящимся», за которых выше так переживал Карпов.
«1978 год. В городе нет масла. Из центра приходят бесконечные разнарядки, по которым сотрудников различных учреждений отправляют работать в совхозы и колхозы.
В Кострому свозят азербайджанцев-мелиораторов, для них спешно строят новый 60-квартирный дом. Те просят предоставить им «барашков» и удивляются, что в городе нет мяса. Один из грузин, разговорившись с Аней, сказал: «У вас здесь нет достоинства. У вас нет того и другого, а вы делаете вид, что так и должно быть, что все в порядке. У вас нет достоинства», — повторил он и, уходя, сказал: «Подумайте об этом».»
Заметьте, о курах, мыле и пр. Дедков уже не пишет. Это значит, что с ними ситуация в городе нормализовалась. По собственному опыту можем сказать, что перебои с теми или иным продуктами годами в СССР не тянулись — порядок наводили довольно быстро, когда в течение недели, когда за пару месяцев. Просто Карпов «сократил», видимо, записи Дедкова, не указав точные даты.
Теперь что касается азербайджанцев. По самому тексту видно, что мелиораторы (интересно, что они делали в большом городе? тем более долго делали, если для них аж какой-то дом стоили?) из Азербайджана просили не просто мяса, а конкретно баранину — еду, вполне для их региона традиционную, но совсем не традиционную для Костромы. Там ее вряд ли употребляли в большом количестве. И потому баранины вполне могло не быть в государственных магазинах. Но на рынке она наверняка была! Разве сложно было дойти до рынка?
«В Москву перед Новым годом приезжают люди из всех окрестных городов за продуктами, но и в столице ощущаются перебои со снабжением. На новой станции метро «Свиблово» есть изображения городов Золотого кольца. Москвичи шутят, что это города, которые кормятся от столицы»
Ключевая информация здесь у Дедкова — «перед Новым годом». Это значит, что люди в столицу ехали не за обычной едой — они ехали за деликатесами к праздничному столу!!!! А это большая разница! Это свидетельствует не против социализма, а как раз за него. Это значит, достаток у советских людей был столь высок, что им уже недостаточно было иметь на своем столе просто продукты питания, а хотелось более вкусных продуктов, более дорогих и элитных, если так можно выразиться, например, буженины, сырокопченых и сыровяленых шеек, окороков, грудинок и т.п., которых производить в таком количестве, чтобы они всегда и повсюду лежали, можно только при коммунизме. А до него еще требовалось дойти.
«1979 год. Каждая сотрудница костромской библиотеки в этом году успела по крайней мере 30 раз съездить на сельхозработы — раньше такого не было. Люди удивляются, и никто не знает, когда эти поездки закончатся.»
А что за проблема такая — ездить на сельхозработы? Это что — ниже уровня достоинства горожан-интеллигентов, которые вдруг стали считать, что их кто-то кормить обязан, а они не обязаны никому и ничего? Ведь это же чисто мелкобуржуазные амбиции, претензия на элитарность! Которая, кстати, и появилась в некоторых слоях советской интеллигенции благодаря активной деятельности диссидентов — врагов советского рабочего класса и настоящих агентов мирового капитала. Дедков явно попался им на удочку. Ну, а Карпов, разумеется, этим воспользовался.
Интеллигенты не переломись бы, если бы немного и поездили на сельхозработы — глядишь, умнее стали бы немного, поняли бы, как хлеб и все остальное, что они желают видеть в продуктовых магазинах, достается. Может у них капризов бы меньше было. А если не хотели ездить, то им никто не мешал автоматизировать полностью тяжелейший сельскохозяйственный труд колхозников, тем более, что это была их прямая обязанность как лиц умственного труда, специально освобожденных обществом от всякой иной работы.
«1980 год. Пучок редиски стоит на базаре 50 копеек, а яблоки — четыре рубля. Селедки нет, в окрестных поселках нет спичек, масла, крахмала и почти исчез кефир. Зато всегда есть водка.»
Правильно, редиску вырастить проще, чем яблоки. Потому и цены такие разные. Хочешь всего много и дешево — развивай экономику страны, придумывай новые технологии, новую агротехнику, создавай сорта более высокоурожайных растений, автоматизируй труд сельских тружеников, т.е. двигайся побыстрее к коммунизму, ведь все условия для этого есть в стране! И будет тебе счастье. А бурчать на диване, что это не так и то не так, не ударяя палец о палец, много ума не надо. На себя же бурчишь, на собственную лень и глупость! А враги твоего народа этим замечательно воспользовались потом, загнав тебя, дурака, в наемное рабство.
«1981 год. На встрече творческой интеллигенции с городскими властями женщина задала вопрос: доколе в Костроме будет продаваться молоко с пониженной жирностью? Ей ответили, что всегда. Исключения делаются лишь для больших городов.»
А теперь при капитализме про жирность молока никто и не вспоминает! Дай бог, было бы хоть какое-то молоко по доступной для кармана трудового человека цене, все равно уж какой жирности и качества.
Читать сейчас такие претензии просто зло берет. Их автор, как нам сказали, писатель. Может он и писатель, но человек явно политически безграмотный и умом инфантильный. Хочешь молоко с высокой жирностью, шевелись — создавай породы высокоудойного молочного скота, дающего жирное молоко, обеспечивай ему превосходной содержание, автоматизируй труд животноводов — будет у тебя и молоко с 6% жирностью всегда и во всех магазинах. К кому претензии-то предъявляются? К самому себе, что работать не умеешь, что не умеешь управлять своим собственным государством?
Вот и доигралась советская интеллигенция со своими претензиями — нашлись умники, которые отшвырнули и ее, и рабочий класс от политической власти, быстро заставив забыть о том, что бывает жирное натуральное молоко. Пьем теперь по ее милости китайские суррогаты вместо молока.
«1982 год. В Москве продают ковры. У магазина стоял грузовик, на котором стоял мужчина, выкрикивая номера, стоящих в очереди. Можно было бы подумать, что это революция или митинг. Столько страсти и благородного энтузиазма в том мужчине на грузовике!»
Так ведь та же самая страсть и тот же самый энтузиазм, что и в дневниковых писания самого Дедкова. Это же все то же мещанство — классический обыватель, для которого не иметь своего ковра — трагедия жизни. В СССР не все были такие и даже не большинство, но, увы, видимо, большинство интеллигенции, которая умела громко кричать и к тому же имела доступ к средствам массовой информации.
И сейчас та же песня. Кому, например, нужны те же лживые писания Карпова? Что он из себя представляет как журналист, как писатель? Полный ноль на палочке! Но зато верно служит буржуазии, которой принадлежат все российские СМИ, в том числе одно из самых позорнейших и желтейших — «Лента.ру». И потому ему дают право вещать миллионам, а тем, кто говорит правду, кто действительно сообщает проверенные и достоверные факты, такого капиталисты не позволят никогда.
«Хлеб или зрелища
Вот так жил провинциальный город при «развитом социализме». Материальные блага подобным городам доставались в последнюю очередь (а чаще и вовсе не доставались).»
И вновь фото, которое также должно доказывать читателям «Ленты.ру», что в СССР было хреново с продуктами питания. Оно подписано: «Магазин в поселке Ния Иркутской области».
 Вот итог обывательских рассуждений Дедкова,
сделанный, правда, не им — другими, но очень удобно к этому
подводившими. Карпов от лица всей российской буржуазии высказал ту
мысль, которая должна навечно отпечататься в головах читателей,
что, мол, социализм — это дерьмо, материальных благ для простого
народа там нет.
Вот итог обывательских рассуждений Дедкова,
сделанный, правда, не им — другими, но очень удобно к этому
подводившими. Карпов от лица всей российской буржуазии высказал ту
мысль, которая должна навечно отпечататься в головах читателей,
что, мол, социализм — это дерьмо, материальных благ для простого
народа там нет.
Полная версия тут.
|
|
</> |


 Онлайн-казино как способ релаксации: разбор психологических механизмов
Онлайн-казино как способ релаксации: разбор психологических механизмов  7 июня ● "День краудфандинга" и не только...
7 июня ● "День краудфандинга" и не только...  Неизвестный науке зверь
Неизвестный науке зверь 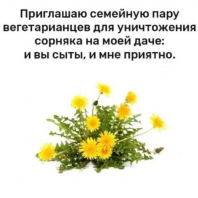 Актуально
Актуально  Дождем поломало,
Дождем поломало,  Самый умный кот.
Самый умный кот.  25 июня ● "День дружбы и единения славян"...
25 июня ● "День дружбы и единения славян"...  Об услышанном сигнале Начинает доходить?
Об услышанном сигнале Начинает доходить? 



