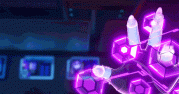Настоящий Н.А.Некрасов: барыжник, лицемер, игрок, страдалец и поэт.
 takoe_nebo — 24.02.2025
takoe_nebo — 24.02.2025

С удивлением обнаружил в свежих комментариях очередной коммунистический миф, связанный с революционным "поэтом" Н.Некрасовым.

Хороший повод разобраться.
Коммунисты подбирали себе идолов по образу и подобию своему, поэтому у 99% всех советских знаковых фигур наблюдается обязательная и непременная закономерность: они все или нехорошие, или плохие, или очень плохие люди. Не стал исключением и Некрасов.
Очередная литературная бездарность всплыла в Российской Империи на волне либерального бурления общества, была поддержена революционными современниками, многократно растиражирована и прославлена в СССР. Давайте разберём основные черты личности и "творчества" фигуранта, типичные и для многих современных деятелей коммунистической и либеральной ориентации.
Дурная наследственность
В роду по отцовой линии Николая Алексеевича все мужчины были заядлыми игроками. Так прадед, «несметно богатый» рязанский помещик, лишился всего своего богатства за карточным столом. Азартными игроками были и дед, и отец, и братья поэта. В семье Некрасовых были популярны рассказы о славной родословной рода Некрасовых, которые так любил рассказывать отец маленькому Николаю: «Предки наши были богаты. Прапрадед ваш проиграл семь тысяч душ, прадед — две, дед (мой отец) — одну, я — ничего, потому что нечего было проигрывать, но в карточки поиграть тоже люблю».
Тяжёлое детство
По легенде, выдуманной самим Некрасовым, его отец - грубый и невоспитанный человек, увидел на балу красавицу полячку и выкрал её, принудив тем самым к замужеству, потому что её родители были против брака их благовоспитанной дочери с неизвестным поручиком. Несчастная мученица стала рабой жестокого сатрапа и мучителя, её поэтичная душа томилась рядом с необразованным грубияном мужем. В результате она родила ему тринадцать детей, Николай был последним. Есть мнение, что Некрасов сам поверил в эту свою легенду.
Детские травмы – это серьёзно.
Отец Некрасова после выхода в отставку стал мелким помещиком. По канонической легенде он был настолько груб и неотёсан, что едва ли не рвал книжки от ненависти к просвещению. В действительности он был обладателем неплохой библиотеки, и даже сам ради развлечения набрасывал разные стишки. Именно благодаря этой библиотеке сам Некрасов и выучился читать.
Когда маленькому Николаю было пять лет, его отец переехал с семьёй в деревню, чтобы быть подальше от властей, которые расследовали мятеж декабристов, в котором отец так или иначе оказался замешан. Возможно это каким-то образом спровоцировало нигилизм будущего революционера.
В деревне будущий поэт наблюдал, как его отец, женатый человек, «мучал крестьян» и устраивал оргии со своими крепостными любовницами.
Однажды папаша задумал показать одной из своих горячо любимых крестьянок Париж, устроив совместную поездку во Францию. Но дети воспротивились этому, произошёл скандал. И вместо Парижа "участница оргии" отправилась вместе с любящим рабовладельцем на курорты Кавказа.
Вероятно это "родительское программирование" сформировало отношение Николая к женщинам.
Способности
В 11 лет отец отправил Некрасова учиться в Ярославскую гимназию, где по воспоминаниям самого поэта он плохо учился из-за увлечения «кутежами и картишками», остался на второй год в одном из классов, не мог учиться дальше, после чего отец забрал его из гимназии. В результате он окончил всего четыре класса.
В 17 лет Некрасов отправился в Петербург, чтобы определиться в дворянский полк. В городе юноша передумал быть военным и попытался поступить в университет, но экзамена не выдержал и провалился. Поэтому поэт поступил вольнослушателем на филологический факультет, кое-как отходил туда два года, и забросил это дело.
При этом он обманул отца, сказав ему что продолжает учёбу. Отец, узнав об обмане, отказал ему в содержании.
Гораздо позже Белинский написал Тургеневу: «Некрасов до понятия о праве высшем ещё не дорос, а приобрести его не мог по причине того, что вырос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер».
Мошенник и хапуга
На протяжении нескольких десятилетий отец поэта судился с собственной сестрой за одну (одну!) крестьянскую душу. Николай помогал отцу составлять иски и прочие судебные документы. Позже эти навыки пригодились Некрасову, когда он отсуживал имущество у других литераторов.
Знаменитый русский писатель Иван Тургенев обвинил Некрасова в том, что он купил у него «Записки охотника» за 1000 руб. и тотчас же перепродал их другому издателю за 2500 руб.
Бывший друг поэта Тургенев простил Некрасову эти полторы тысячи рублей, на которые поэт надул писателя при перепродаже «Записок охотника», однако некрасивое поведение Некрасова во время одной из судебных тяжб видимо переполнило чашу терпения Тургенева. Их дружба оборвалась.
Позднее, в одном из своих писем Тургенев писал: «не валандайся ты с этим архимерзавцем Некрасовым!»
Некрасова часто упрекали в мошенничестве. Герцен обвинял его в присвоении чужих имений, называя не иначе, как «гадким негодяем» и «стервятником». Анненков обвинял Некрасова в ограблении больного Белинского.
Яркий пример произошёл с Николаем Огаревым – ближайшим сподвижником Герцена и активного в прошлом участника кружка Белинского. В результате откровенного мошенничества и судебного подлога Некрасов и его любовница Панаева отжали у Огарева его шикарное имение.
После этого старые друзья отвернулись от Некрасова, его перестали пускать на порог их домов, в переписке друг с другом они не жалели сочных эпитетов для поэта. Герцен возглавил кампанию против Некрасова в своем "Колоколе", на страницах которого он открыто обвинял этого "гадкого негодяя" и "шулера" в том, что он украл сто тысяч франков, принадлежащих Огареву. Тургенев, в прошлом близкий друг Некрасова, в негодовании потрясал кулаком: "Пора этого бесстыдного мазурика на лобное место!" На похоронах литератора Дружинина ни один из старых литературных друзей не заговорил с ним, и не подал руки.
Сам Некрасов по этому поводу не переживал.
Мнение о Некрасове как о жулике и барышнике высказали Достоевский и Краевский, когда они узнали, что юноша Некрасов скупил у издателя экземпляры сочинений Гоголя и перепродал их по гораздо более высокой цене.
Обвинение в спекуляции рукописями последовало и от Николая Успенского.
Многим до такой степени бросалась в глаза эта сторона личности Некрасова, что они искренно изумлялись, когда знакомились с его произведениями. Грановский в 1853 году был весьма поражён, что такой, как он выразился, «мелкий торгаш» может быть таким «глубоко и горько чувствующим поэтом».
Историк литературы А.М.Скабичевский: «Некрасов сознательно стремился к наживе этих благ, постоянно был себе на уме, всех поражал своей холодной практичностью и способностью сколачивать копейку, прибегая для этого порой и к не совсем благовидным поступкам, заставлявшим негодовать на него друзей и даже отворачиваться от него.»
Своеобразный итог жизни поэта подвёл его бывший друг Тургенев, спрашивавший Боткина в письме из Баден-Бадена: “Видишь ли ты экс-журналиста, экс-поэта и присно-жулика Некрасова?”».
Литературная бездарность
Испытывая существенные финансовые проблемы, не имея ни образования, ни способностей, ни талантов, Некрасов пробовал себя в малоквалифицированном и низкооплачиваемом частном преподавании. А так же, по тогдашней моде, пробовал сочинительствовать.
В 1840 году при поддержке некоторых петербургских знакомых он выпустил книжку своих стихов под заглавием «Мечты и звуки». В стихах он подражал известным авторам.
Готовящуюся книгу Некрасов отнёс популярному тогда В.А.Жуковскому, чтобы узнать его мнение. Тот выделил два стихотворения как приличные, остальные посоветовал молодому поэту печатать без имени: «Впоследствии вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи». Некрасов скрылся за инициалами «Н.Н.»
Знаменитый В.Г.Белинский, самый влиятельный литератор Российской Империи того времени, в «Отечественных записках» презрительно отозвался о виршах Некрасова. «Прочесть целую книгу стихов, встречать в них все знакомые и истертые чувствованьица, общие места, гладкие стишки, и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души, в куче рифмованных строчек, — воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики.»
Эту уничтожающую рецензию прочитал Некрасов, она повергла его в такой шок, что он был в полном отчаянии.
И сама книга начинающего поэта совершенно не раскупалась.
Тогда поэт поменял вид деятельности, и стал работать работу в библиографическом отделе «Отечественных записок». Без достижений, без успехов, с небольшим жалованием.
Всё изменило личное знакомство Некрасова с Белинским, который был не только литератором, но и пламенным нигилистом и революционером.
Белинский остался низкого мнения о Некрасове не только как о поэте, но и как о прозаике, однако на одно его стихотворение «В дороге» написал хорошую рецензию.
Тем не менее как вольнодумца и критика режима Белинский лелеял поэта, и выводил его в люди. Именно Белинский привёл его в дом к Панаевым, где собирался весь литературный Петербург.
Некрасов воспринимал Белинского как учителя и относился к нему, можно сказать, благоговейно. С 1842 года Некрасов находился под непосредственным влиянием Белинского.
Став знаменитым и успешным издателем, Некрасов стал публиковать свои опусы в своих журналах.
Все свои главные произведения Николай Алексеевич написал уже на досуге.
Самая знаменитая его поэма "Кому на Руси жить хорошо" была написана языком, стилизованным под просторечный говор, с примитивными лубочными персонажами, не соответствующая ни приличному литературному уровню, ни искусству русской словестности.
Целый ряд критиков заявляли, что поэту не удалось отразить дух народа, что поэма вышла фальшивой, ходульной и надуманной, что простого мужика увидеть там нельзя.
С точки зрения литературы таковыми были очень многие опусы Некрасова. Чистый, красивый, высокий, богатый, изящный и многообразный русский язык этот творец постоянно заменял низкопробным, площадным, обесцененным говором.
Некрасов делал в своих стихах основной упор на остросоциальное содержание, в ущерб художественным качествам. Многие стихи откровенно ему не удавались. С точки зрения изящества стихосложения, литературы и искусства его нельзя поставить рядом ни с Пушкиным, ни с Лермонтовым, а порой и с некоторыми второстепенными поэтами.
Если бы Некрасов был поэтом сегодня - он бы писал тексты для рэперов.
Литератор, друг А.С.Пушкина, князь П.А.Вяземский в 1856г. написал про стихи Некрасова: «Все это, если можно так выразиться, род литературного молодечества, свойственного русской натуре, которая часто любит и лишнее выпить, и лишнее слово вымолвить, чтобы людям показать свое удальство.»
В посмертном обсуждении творчества Некрасова в Российской Империи многие с негодованием отвергали самую мысль о параллели между творчеством, доведшим русский стих до вершины художественного совершенства, когда Некрасова сравнивали с великими Пушкиным и Лермонтовым, и «неуклюжим» стихом Некрасова, по их мнению лишённым всякого художественного значения.
В.Розанов: «Некрасов запел в глубоко русском духе. У Некрасова всё было ежедневно, улично, точно позвано сейчас с улицы к столу поэта-журналиста»
У Некрасова было очень много проходных вещей, не переживших своего времени.
В современном литературоведении много сказано о том, что больше всего слабых стихов, если брать русских поэтов-классиков, именно у Некрасова.
Литературный барыга
Некрасов компенсировал свою литературную бездарность такой же литературной оборотистостью.
Он начал активно заниматься издательской деятельностью. Ему пришла в голову коммерческая идея: собирать и издавать альманахи с участием знаменитых писателей, не платя им гонорары.
Белинский откровенно просил известных литераторов подарить Некрасову повесть, рассказ или стихотворение, чтобы помочь выбраться из стеснённых финансовых обстоятельств.
Когда же Белинский решил составить собственный альманах «Левиафан» и не смог договориться с авторами, Некрасов перекупил за спиной Белинского все авторские права.
Заведя знакомства с петербургской богемой, поэт начал издавать альманахи. Он выпрашивал у известных литераторов повести, рассказы и стихи, а потом, когда ему дарили тексты из жалости к его бедности, зарабатывал на их публикации.
Он спокойно облизывал власть имуших ради денег и преференций, спокойно использовал своих любовниц ради того же самого.
Муж Авдотьи Панаевой получил большое наследство, и у Некрасова родился план выкупа и совместного возрождения журнала «Современник». В 1846 году Панаев выкупил журнал у критика и поэта Петра Плетнёва. При этом Некрасов вскоре «отжал бизнес» у Панаева. Дошло до того, что Некрасов велел своим сотрудникам денег Панаеву не выдавать, потому что он их всё равно прогуляет.
Некрасов хотел зарабатывать деньги, поэтому журнал стал не столько литературным, сколько развлекательным. Некрасов сделал в журнале ряд рубрик: писали о французской моде, публиковали материалы по разным вопросам - от экономики до естественных наук.
В результате Некрасов стал успешным издателем.
Правда литераторы обвиняли Некрасова в том, что он им как издатель мало платил, но много на них зарабатывал, за что Герцен называл Некрасова «стервятником», но барыгу с идеалами миллионера это не смущало.
Ряд исследователей и литературоведов впоследствии считали, что вклад Некрасова как издателя в российскую жизнь был больше, чем как поэта.
Хамелеон
Как настоящий революционер и барыжник Некрасов постоянно подстраивался под обстоятельства и генеральную линию партии.
Он, потомственный помещик, был крайне недоволен отменой крепостного права. В его поэме «Кому на Руси жить хорошо» есть знаменитые строчки:
Распалась цепь великая!
Распалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим — по мужику!
В стихотворении «Элегия»: "Народ освобождён, но счастлив ли народ?"
В другом:
«Знаю: на место сетей крепостных
Люди придумали много иных…»
Будучи литературным барыгой Некрасов всегда продвигал свои коммерческие интересы. Рекламируя свой журнала «Современник» поэт отправился на торжественный обед и зачитал там хвалебную оду генералу Муравьёву-Виленскому. Это вызвало гнев друзей Некрасова из числа либеральной общественности, так как генерал подавлял ранее Польское восстание и заслужил в кругу борцов с режимом прозвище «Муравьёв-Вешатель».
По словам присутствовавших, Некрасов начал заискивать перед Муравьёвым с самого начала обеда. Сидя за столом с Муравьёвым и слушая, как тот ругает революционные идеи, распространяемые журналами, поэт кивал ему и повторял: «Да, ваше сиятельство! Нужно вырвать это зло с корнем! Ваше сиятельство, не щадите виновных!»
После окончания торжества, когда обедавшие покинули обеденный стол и остались лишь немногие, перешедшие в галерею выпить кофе, Некрасов подошёл к Муравьёву и попросил позволения сказать свой «стихотворный привет». Муравьёв разрешил, но даже не повернулся к поэту, продолжая курить трубку. Текст оды не сохранился, но, по утверждению присутствовавших, она содержала высокопарные восхваления Муравьёва и призывы к расправе над всеми революционно настроенными.
«Крайне неловкая и неуместная выходка Некрасова очень не понравилась большей части членов клуба», — повествует барон А. И. Дельвиг в своей книге, стихи сильно покоробили присутствовавших. Сам Муравьёв лишь окинул Некрасова презрительным взглядом и советовал не печатать эти стихи.
Ода не помогла. В том же году журнал «Современник» закрыли.
Корней Чуковский писал по тому же поводу:
"Известно, как Некрасов любил свою мать. В мире, кажется, не было другого поэта, который создал бы такой религиозный культ своей матери. И всегда из его слов выходило, что она была полька. В его стихотворении «Мать», написанием на смертном одре, повествуется, что в детстве поэта она пела о польском восстании 1831 года:
«Несчастна ты, о родина, я знаю:
Весь край в крови, весь заревом объят.»
Как же решился он чествовать усмирителя Польши? Разве этот поступок – не оскорбление памяти матери?"
Но на самом деле нет достоверных свидетельств о любви Некрасова к матери. Это ещё одна из легенд.
Наоборот, когда он уехал в Петербург, он переписывался со своей сестрой, с которой был наиболее близок из всей семьи. Ни в одном из писем Некрасов даже не поинтересовался тем, как дела у матери, как здоровье. Хотя в этот период она уже тяжело болела. Более того, когда матери стало совсем плохо и родственники вызвали Некрасова проститься с умирающей матерью, он сослался на занятость и не приехал. Не поехал он и на похороны.
Сам Некрасов подлости своего поступка никогда не отрицал. На упрёки он отвечал: «Да, я подлец, но и вы подлецы».
Дмитрий Каракозов был одним из тех молодых революционеров, которые вняли призывам Некрасова лить кровь ради свободы. Дмитрий Каракозов попытался застрелить Александра II, но промахнулся, так как Осип Комиссаров, случайно стоявший рядом шапочный мастер, ударил террориста под руку.
Узнав о провале покушения, Некрасов написал адрес императору, в котором выразил «глубокую скорбь о неслыханном в России преступлении» и «беспредельную радость о сохранении горячо любимого монарха». В честь Осипа Комиссарова поэт сочинил стихи.
Письмо Некрасова, написанное 17 декабря 1855 года в Петербурге, адресовано цензору Петербургского цензурного комитета Владимиру Бекетову: «Добрейший Владимир Николаевич. Боткин здесь и остановился у меня; ежели, паче чаяния, какая-нибудь фраза в "Данте" Вас затруднит, то, будьте столь добры, покажите нам, Боткин сам выправит, и дело с концом. Мы давно Вас не видали. Во вторник к обеду у меня соберется вся компания, - очень обяжете, присоединившись к ней. Душевно преданный Вам Н. Некрасов».
Провокатор-революционер
Некрасов активно подстрекал читателей на теракты и перевороты в своих стихах:
«иди в огонь…»,
«иди и гибни…»,
«умри не даром: дело прочно, когда под ним струится кровь…».
«Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями полна!»
После неудачи с «Современником в 1868 году Некрасов арендовал у издателя А.Краевского журнал «Отечественные записки», и, как писали в СССР, сделал его боевым органом революционного народничества.
Революционные круги молодёжи возвели Некрасова в ранг кумира и небожителя. Не случайно при вербовке в подпольные организации испытуемых заставляли читать и даже заучивать произведения Некрасова.
При этом например Афанасий Фет писал Некрасову:
«Влача по прихоти народа
В грязи низкопоклонный стих,
Ты слова гордого: свобода
Ни разу сердцем не постиг…»
В самой революционной среде тоже не всем нравился Некрасов. "Каков негодяй, из-за него в казематах люди сидят, а он с министрами в картишки играет", — таково было мнение в этих кругах о поэте.
Тем не менее в погребении Некрасова приняли участие многие террористы и революционеры, в частности, представители «Земли и воли».
На гроб поэта положили венок «От социалистов».
По словам одного из самых знаменитых народовольцев, человека, теоретически обосновавшего применение террора против правительства Российской Империи, Н.А.Морозова, «никто в России не сделал большего по дискредитации власти, чем дворянин и помещик Николай Алексеевич Некрасов.»
Главный коммунистический идеолог и марксист Георгий Плеханов в своей статье к 25-летию смерти поэта в 1902 году рассмотрел творчество Некрасова с марксистской точки зрения. В ней Плеханов провёл резкую грань между Некрасовым и другими дворянскими писателями, отметил революционизирующую функцию его поэзии.
Позднее Ленин будет с большой теплотой говорить о Некрасове, называя его «старым русским демократом». Он же напишет «Несмотря на отдельные колебания, все симпатии Некрасова были на стороне революционной демократии»
Советские критики обожали пропагандировать Некрасова.
Интересно, что ещё во времена Российской Империи кто-то вогнал в могилу Некрасова осиновый кол.
Дмитрий Мережковский в статье, посвящённой Некрасову и Тютчеву, написал: «На колыбели - кабак, а на могиле - осиновый кол. Такова благодарность России Некрасову».
Что характерно, не только русофобы коммунистические, но и соверменные либеральные очень любят Некрасова. Дмитрий БыковЗильбертруд: «Я никогда не прощу Герцену (которому, слава Богу, и дела нет до моего прощения-непрощения), - это травля Некрасова, которую он устроил у себя в "Колоколе", это его инвективы в адрес моего любимого поэта».
Лжец и лицемер
Поклонники его творчества никак не могли понять, какой из двух Некрасовых настоящий: тот, который с негодованием пишет стихи про "рой подавленных рабов, завидующих житью хозяйских псов", или тот барин, который заставляет слуг обслуживать за обедом его любимых собак как людей?
Некрасов в стихах возмущался бесправием народных низов и их тяжёлой долей униженных, а в жизни он требовал от слуг отдельно прислуживать его любимым охотничьим собакам, подносить им еду на специальных салфетках и, вообще, обслуживать их как людей. Дорогих щенков Некрасов часто привозил из-за границы. Своих элитных собак Некрасов часто воспевал в стихотворениях.
У многих современников вызывало удивление, что поэт, зачастую видящий мучения и страдания даже там, где их трудно разглядеть, может позволить себе вести шикарный образ жизни барина-миллионера, играть в карты с высшей знатью в Английском клубе, и тратить целое состояние на покупку английских ружей и псов для охоты, этого увлечения богатых людей.
Его современники считали, что Некрасов сам не верит в то, что пишет, слишком уж большим был контраст между его стихами и его жизнью.
«В стихах печалится о горе народном, а сам построил винокуренный завод!» — возмущались Левитов, Полонский, Авдеев.
А. К. Голубев в своих воспоминаниях о Некрасове изумлялся, что тот клеймит существовавшее в Петербурге «Обжорное общество» гурманов, описывает для контраста голодных, замученных бурлаков: «Какими негодяями нужно быть, чтобы обжираться, и это в то время, когда бурлаки умирают от непосильного труда ради корки хлеба?». Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что Некрасов не только сам состоял в этом клубе, но и был одним из самых активных его членов, объедался там наравне со всеми, зазывая в него всех своих друзей.
Знаменитый лирический поэт Фет описывает, что Некрасов, порицая в литературе тех, кто вбивал от мальчишек гвозди остриём вверх на запятках экипажа, сам имел ровно такие гвозди на своей коляске. Так же Фет назвал Некрасова продажным рабом, отлучённым от храма поэзии.
С пафосом обличая в своих стихах медвежью охоту, Некрасов при этом сам любил выезжать на медвежью и лосиную охоту с поварами, лакеями, сервизами и несессерами, в обществе князей и министров, сгоняя на зверя целые деревни.
Авдотья Панаева вспоминала: когда Некрасов собирался на медведя, были большие сборы — везлись дорогие вина, закуски и просто провизия; с собой даже брали повара.
В пьесе про охоту Некрасов очень бранит порнографические стихи Михаила Лонгинова, но позднее в архиве были обнаружены поэтические послания Некрасова к Лонгинову, в которых Некрасов употребляет практически ту же лексику, за которую бранил Лонгинова.
«Двойной человек» — так выразил распространённое мнение о Некрасове Александр Пыпин.
Историк Тимофей Грановский осенью 1853 года писал: «Некрасов приезжал. Раз стал он нам читать стихи свои, и я был поражён непонятным противоречием между мелким торгашом и глубоко и горько чувствующим поэтом».
Наиболее серьёзным с творческой точки зрения было обвинение Некрасова в том, что он не верит в то, за что борется, то есть что он просто обманщик. Такое мнение было тоже весьма распространённым. В частности, это утверждали писатели Николай Лесков, Лев Толстой, Аполлон Григорьев, Василий Боткин, композитор П. И. Чайковский, композитор Юрий Арнольд, историк Костомаров и многие другие.
Некрасов и сам иногда признавался в своём лицемерии, ещё в 1855 году он писал Боткину: «Во мне было всегда два человека — один официальный, вечно бьющийся с жизнью и с тёмными силами, а другой такой, каким создала меня природа».
Богатый барин
В дополнение к предыдущему.
Великий Ф.М.Достоевский: «Миллион – вот демон Некрасова! Что ж, он любил так золото, роскошь, наслаждения и, чтобы иметь их, пускался в "практичности"? Нет, скорее это был другого характера демон; это был самый мрачный и унизительный бес. Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твёрдой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы…»
Некрасов не знал русского народа, не жил внутри него и не «ходил в народ», как разночинцы-народовольцы. Взаимоотношения с народом у него были барин-слуга. Знания о народной жизни он черпал из книг, таких как «Поэтические воззрения славян на природу» Александра Афанасьева, собрание пословиц и поговорок, а также словарь Владимира Даля. Некрасов делал подробные выписки из такого рода источников.
Карточный игрок
Пристрастие к карточным играм поэт унаследовал от своих предков.
В детстве он играл с дворовыми.
Но он, в отличие от своих предков, на карточных играх зарабатывал. Поэт играл в Английском клубе, в кругу очень состоятельных людей, высшего общества Российской Империи. В то время как его партнёры по столу относились к игре беспечно, сам Некрасов ехал в клуб хорошо выспавшимся и трезвым, а там играл со всей возможной сосредоточенностью.
Сам Некрасов говорил: «В чем другом у меня не хватает характера, а в картах я стоик! Не проиграюсь! Но теперь я играю с людьми, у которых нет длинных ногтей».
Выигрыши поэта были огромны. Один только Александр Абаза, будущий министр, проиграл ему более миллиона франков.
Не гнушался Некрасов раздевать за карточным столом и людей попроще. Однажды со знаменитым поэтом пришел познакомиться провинциальный купец, приехавший в столицу продавать лес. Знакомство это дорого обошлось простаку. Спустя несколько дней Белинский поинтересовался у Некрасова:
— Что, хороша ли была игра?
— Да он у меня восемь тысяч украл! — с гневом воскликнул Некрасов.
— Как украл? Ведь вы его обчистили!
— Да, обчистил… Он умудрился в другой дом пойти и там еще восемь тысяч проиграл — не мне! Не мне!
Как все картежники, Николай Алексеевич верил в приметы. Обычно игроки считают плохой приметой одалживать деньги перед игрой. Однажды сотрудник некрасовского «Современника» Игнатий Пиотровский обратиться к Некрасову с просьбой выдать ему триста рублей в счет оклада. Несмотря на то, что игровой бюджет Некрасова составлял десятки тысяч рублей, поэт отказал просителю. Пиотровский пытался уговорить Некрасова, он сказал, что если не получит этих денег, то пустит себе пулю в лоб. Но Некрасов был неумолим. Пиотровский застрелился. Оказалось, что он задолжал всего тысячу рублей, но ему грозила долговая тюрьма. Молодой человек предпочел смерть позору.
Тургенев называл Некрасова настоящим головорезом карточного стола, который никогда не проигрывал в карты, обыгрывая и своих друзей, и совершенно незнакомых людей, не делая снисхождения никому.
Страсть Некрасова к картам приняла угрожающие размеры после окончательного расставания с Панаевой в 1864 г. «Он и сам в немногочисленных письмах тех лет жаловался, что заигрался, и что игра не даёт ему возможности заниматься делами… Карты, а не журнал, его кормили и подпитывали его издательскую деятельность».
Любовная мораль фигуранта
Плюгавый человечек с невзрачной болезненной внешностью, не имеющий знатного родства и до зрелого возраста денег, прославившийся своими поступками, которыми не мог гордиться приличный человек, Некрасов не пользовался популярностью у женщин. Это он компенсировал горничными в доме отца, а позже, в самостоятельной жизни, дешёвыми проститутками. Пока не встретил Панаеву.
Соблазнив Авдотью Панаеву, жену писателя Панаева, Некрасов переселился к ней на квартиру. На протяжении 16 лет он жил в доме Панаевых, вместе с ней и с её законным мужем, периодически закатывая последнему сцены ревности.
От Некрасова отвернулись друзья, и общество осуждало их отношения. Авдотья очень переживала, узнав об очередных сплетнях и весь негатив выплескивала на любовника. Несчастьем с для них стало рождение сына, мальчик прожил очень мало и умер. Редкий день обходился без скандалов, Николай был патологически ревнив, а сам открыто посещал любовниц. Авдотья искала утешения у мужа Ивана Панаева и плакалась тому, а Панаев и сам не знал, что делать в этой ситуации.
Сам Некрасов не раз называл себя палачём этой женщины. Семьи у неё не было, детей не было, Панаев умер у неё на руках, успев попросить прощение за те мучения, что доставлял. И тогда Авдотья собралась с духом и рассталась с Некрасовым.
Всю переписку с Некрасовым Авдотья Яковлевна сожгла.
Исследователь творчества Некрасова знаменитый Корней Чуковский написал по этому поводу:
«Некрасов был многолюб, многожёнец , не способный к однобрачной любви, разойдясь с одной женщиной, он мгновенно сходился с другой».
По утверждению К. И. Чуковского, в литературной среде середины XIX века сложилось устойчивое мнение, что «Некрасов — первостатейный кулак, картёжник и весь сгнил от разврата с француженками».
В возрасте 33 лет у поэта был обнаружен сифилис.
В 48 лет Некрасов женился на 18-летней простой малограмотной деревенской девушке Фёкле. По одной из версий он выиграл её в карты. Девушка была на содержании у одного купца, он-то и проиграл ее в карточной игре Некрасову.
Исследователь творчества Некрасова Михаил Макеев указывает: поэт признавался Лазаревскому, что взял Фёклу из «заведения», т.е. она была проституткой.
По словам родных поэта, Фёкла была похожа на сытенькую и чистенькую горничную, была малограмотной, шалела от петербургских магазинов, целовала Некрасову руки и учила наизусть его стихи.
Поэту в ней нравилось всё, кроме имени – оно звучало недостаточно благородно. Поэтому он переименовал её в Зинаиду, а отчество дал своё, вместо родного Анисимовна.
Вскоре после брака Некрасов тяжело заболел, Фёкла неотлучно находилась у его кровати, почти год. По воспоминаниям очевидцев, по истечении этих дней она из молодой краснощекой женщины превратилась в старуху с желтым лицом. Такой она осталась до конца своих дней. Любовных стихов он ей так и не посвятил.
Психика страдальца
Литературовед В.Евгеньев-Максимов: «Впечатления детства, а в особенности юности сделали Некрасова замкнутым, недоверчивым, себе на уме, настроили его очень скептически в отношении окружающих и привили ему крайнюю сдержанность в проявлениях всего чисто личного».
Плохое настроение сопровождало Некрасова всю жизнь. О своей юности он написал такие строки:
«И в новый путь с хандрой, болезненно развитой,
Пошёл без цели я тогда...»
В зрелом возрасте Некрасов погружался в хандру и был подвержен чудовищным приступам депрессии настолько часто, что в некрасовском доме даже был специальный «диван для хандры». На нём поэт лежал по несколько дней подряд, не разговаривая ни с кем. Если же он не молчал, то было еще хуже: Некрасов то причитал, что умирает, то плакал от ненависти к себе, то собирался бежать на Крымскую войну и погибнуть в осаждённом Севастополе, то рвался на дуэль, чтобы его застрелили, то ходил по дому и подбирал потолочные крюки покрепче, чтобы покончить с собой, то поглядывал на пистолет по 20 раз за день.
Его возлюбленная Авдотья Панаева вспоминает: «...если бы кто-нибудь видел, как он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему всё опротивело в жизни, а главное - он сам себе противен, то, конечно, не позавидовал бы ему».
С возрастом депрессия продолжала нарастать, что подтверждают цитаты из его писем 1856-1857 гг.: «У меня припадки такой хандры бывают, что боюсь брошусь в море, коли один поеду да лихая минута застигнет». «Физическое моё состояние таково, что всякое душевное беспокойство делает меня никуда не годным, я просто теряю самообладания. Смолоду я боялся смерти, теперь я боюсь жизни. Гадко!» «В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет, и тотчас делается при этой мысли легче».
Эта особенность его характера наложила отпечаток не только на личную жизнь, но и на все его творчество. Он был самым угрюмым поэтом русской классической литературы. Всюду в его стихах тлен, безысходность, покойники, кости, гробы, кнуты, розги, кровь, похороны, стоны, плач, мучения.
Дополнительного эффекта его стихам придавало то, что автор читал их глухим и замогильным голосом, никогда не изменяя интонаций.
Тема мученичества, страданий и лишений стала у него одной из главных. Так он фантазировал о матери, через много лет после её смерти, так писал про своих коллег Белинского и Добролюбова, так он описывал себя, три года страдающего в начале своей карьеры, нищего, вечно голодного и зачастую бездомного. Всё это было плодом его болезненного воображения.
Его личные страдания выразились в стихотворениях "Умру я скоро", "Тяжёлый год", "Замолкни, муза, мести и печали" и др.
Естественно и закономерно всё это вылилось в созданные им образы несчастного страдающего народа.
Корней Чуковский, самый знаменитый исследователь его творчества, писал: "У Некрасова вообще была страсть к чрезмерным изображениям чрезмерных истязаний и мук. Даже те вещи, которые другим показались бы самыми приятными и милыми, — ему казались орудиями пытки. Этот страстный к страданию человек видел следы страдания там, где их не видел никто. Другие видели рельсы, а он человеческие трупы и кости. Другие видели пыль, а он кровь. Он галлюцинат человеческих мук".

 Кому и для чего сегодня необходимы виртуальные криптообменники
Кому и для чего сегодня необходимы виртуальные криптообменники  Иконы стиля 40-ые годы - II
Иконы стиля 40-ые годы - II  «Если бывшая свекровь хочет видеть внучку – пусть платит!» – решила Юлия
«Если бывшая свекровь хочет видеть внучку – пусть платит!» – решила Юлия  Апрельский салат
Апрельский салат  27 марта 1793 года — манифест о включении Правобережной Украины в состав
27 марта 1793 года — манифест о включении Правобережной Украины в состав  Весеннее дачное
Весеннее дачное  Очарование зла: почему "плохие парни" так притягивают, и чем это опасно?
Очарование зла: почему "плохие парни" так притягивают, и чем это опасно?  Скидочные среды
Скидочные среды  Наследники Петра
Наследники Петра