Мои книги... Кнут Гамсун - "В сказочной стране". Часть 4. О Льве Толстом
 neznakomka-18 — 18.08.2024
neznakomka-18 — 18.08.2024
Мысли мои переходят на Толстого, и я не могу подавить в себе
подозрения, что в жизнь этого великого писателя вкралось нечто
поддельное, ложное. Первоначально это могло произойти от искреннего
чувства беспомощности; но сильный человек должен был остановиться
на чём-нибудь, и вот, когда все радости земные были исчерпаны,
Толстой со свойственной ему силой отдался религиозному ханжеству.
Правда, вначале он как бы играл немножко этим, но он был слишком
силён, чтобы остановиться, и эта игра превратилась в его привычку,
может быть, даже в его натуру. Опасно начинать игру.
Генрик Ибсен довёл игру до того, что годами в определённый час
сидел сфинксом на определённом стуле в определённом кафе в Мюнхене.
А уж потом ему пришлось продолжать эту игру; куда бы он ни
приезжал, ему всюду приходилось сидеть сфинксом напоказ людям в
определённое время и на определённом стуле. Потому что люди ждали
его. По всей вероятности, это было для него иногда очень
мучительно; но он был слишком силён, чтобы прекратить эту игру.
Ах, что это за силачи, Толстой и Ибсен! Многие другие не могли бы
вести подобной игры более недели. А может быть, оба они проявили бы
более силы, если бы вовремя остановились. К сожалению, они теперь
возбуждают насмешку как у меня, так и у других обыкновенных людей.
Ну, что же, они достаточно велики, чтобы перенести это; а мы сами
будем предметом насмешек в свою очередь. Но если бы они были более
велики, то они, может быть, не относились бы к самим себе так
серьёзно. Они улыбнулись бы слегка своему собственному многолетнему
чудачеству.
То обстоятельство, что они внушают другим, а в конце концов и
самим себе, что их игра является для них необходимостью, доказывает
недостаток в их личности, что и делает их меньше, унижает их. Для
того, чтобы заплатать эту прореху, необходимо великое произведение.
Чтобы позировать -- надо стоять на одной ноге, а естественное
положение -- это стоять на двух ногах без всякого жеманства.
"Война и мир", "Анна Каренина" -- более великих произведений в
своём роде никто не создавал. Размышляя над всем этим, я с радостью
понимаю и с радостью готов простить Толстому его отвращение к
созданию самых великолепных художественных произведений для
человечества. Поставлять изящную литературу могут другие, кто
чувствует себя хорошо при этом, кто высоко ставит эту деятельность
и находит в ней великую честь.
Но против чего я по своему разумению восстаю, так это против
тщеславной попытки великого писателя сочинять философию,
мышление. Вот это-то и искажает его положение в позу. Он
разделяет участь Ибсена. Ни тот, ни другой не мыслители, но оба они
стоят на одной ноге и хотят быть мыслителями. Они думают, что это
придаёт им больше цены. И вот мы, остальные, при всей своей
незначительности, смеёмся над ними, -- что они при своём величии
прекрасно переносят.
Философия Толстого -- это смесь старых избитых истин и
поразительно несовершенных собственных измышлений. Недаром он
принадлежит народу, который за всю свою историческую жизнь не дал
человечеству ни одного мыслителя. Точно так же, как и народ
Ибсена. Как Норвегия, так и Россия создали много великого и
хорошего, но обе страны не дали человечеству ни одного мыслителя.
Во всяком случае, до появления двух великих писателей, Толстого и
Ибсена.
Меня ничуть не удивляет, что оба эти писателя стали мыслителями
в своих странах. Других не было. И это не случайность -- есть
большой смысл в том, что мыслителями сделались писатели, а не
сапожники. И я мог бы объяснить, каким образом это произошло на мой
взгляд.
Кто жил достаточно долго, чтобы помнить семидесятые годы, тот
знает, какая перемена произошла с писателями, начиная с этого
времени. До этого они были певцами, выразителями настроения,
повествователями, -- а потом они увлеклись духом времени и стали
работниками, воспитателями, реформаторами. И вот проявилось
творчество без особенной фантазии, в котором зато было много
старания и много здравого смысла. Можно было писать обо всём, что
только окружало обыкновенного человека, лишь бы оставаться "верным
действительности", и это создало множество великих писателей во
всех странах. Литература раздулась, она популяризировала науку,
занималась общественными вопросами, преобразовывала учреждения.
Писатели превратились в людей, у которых было наготове мнение
обо всём; читатели спрашивали друг друга, что Золя открыл в законах
наследственности, что Стриндберг открыл в химии. Всё это привело к
тому, что писатели заняли в жизни такое место, какого никогда
раньше не занимали. Они стали вождями наций, они знали всё, поучали
всему. Журналисты интервьюировали их, узнавая их мнение о вечном
мире, о религии, о всемирной политике...
В конце концов люди проникались убеждением в том, что их писатели
-- завоеватели мира, которые проникали в самую глубину духовной
жизни известной эпохи и приучали народ к мышлению. А так как
у народов не было других подходящих людей, то писатели и
превратились в мыслителей. И они заняли это место без всяких
возражений и даже не улыбнулись. Они, быть может, обладали
философской начитанностью в той мере, в которой обладает ею всякий
человек со средним образованием, и с этой-то подготовкой, как с
основанием, они стали на одну ногу, наморщили лоб и стали возвещать
человечеству философию.
Так, по всей вероятности, всё это и случилось в коротких словах, а
раз игра была начата, то приходилось продолжать её. Хотя
прекращение такой игры гораздо более служило бы доказательством
силы.
Даже такой великий писатель, как Толстой, не избёг участи и унизил
себя, сделавшись мыслителем. Очень может быть, что его врождённая
наклонность к этой профессии представляется другим гораздо менее
значительной, нежели ему самому; не знаю, что на этот счёт думают
другие, но я допускаю это. Время от времени в газетах появляются
различные цветы его мышления, а кроме того он пишет книги, в
которых излагает своё мнение относительно жизни земной и жизни
грядущей. Несколько лет тому назад он обнародовал своё
знаменитое учение об абсолютном целомудрии, о полном половом
воздержании. Когда на это учение возразили, что на земле в таком
случае люди вымерли бы, то мыслитель ответил: "Да, в этом-то вся и
суть, пусть люди вымрут!". Ах, старое учение!
Один маленький эскиз Толстого носит заглавие: "Много ли человеку
земли нужно?". Речь идёт об одном крестьянине, Пахоме, который
находит, что у него слишком мало земли, и потому прикупает ещё
пятнадцать десятин. Через некоторое время у него возникают ссоры с
соседями, после чего он принимает решение прикупить ещё и их землю,
и вот он становится маленьким помещиком. Прошло ещё некоторое
время, и к Пахому приходит один крестьянин с Волги и рассказывает
ему, как там хорошо живётся крестьянам, сколько земли они получают
даром и на сколько тысяч рублей в год они продают пшеницы. Пахом
отправляется на Волгу. Здесь он действительно не встречает никаких
затруднений и получает землю в большом количестве; но в своём
стремлении получить всё больше и больше земли он окончательно
выбивается из сил. В один прекрасный день его рабочие находят его
мёртвым в поле, так он там и свалился.
Они вырыли своему хозяину могилу -- а могила была длиной лишь в два
метра. И вот мыслитель говорит, что столько земли и нужно одному
человеку, то есть два метра на могилу.
Может быть, было бы вернее сказать, что двух метров земли слишком
мало для одного человека; но для трупа этого достаточно. Пожалуй,
ещё вернее было бы сказать, что даже и этих двух метров человеку не
нужно. Во-первых, потому, что труп перестаёт быть человеком, а
во-вторых, потому, что труп может обойтись и без погребения. И
мыслитель может получить обратно свои два метра.
Вот ещё маленький образец философии Толстого: один человек был
недоволен своей судьбой и роптал на Господа. Он сказал: "Милосердый
Бог даёт другим богатства, а мне ничего не даёт. Как мне пробиться
в жизни, раз у меня ничего нет?". Один старец услышал эти слова и
сказал -- "Неужели ты так беден, как тебе это кажется? Разве Бог не
дал тебе молодость и здоровье?" Да, этого человек не мог отрицать,
был он молод и здоров. Тогда старец взял человека за правую руку и
сказал: "Позволишь ли ты отрубить эту руку за тысячу рублей?". Нет,
на это человек не соглашался. "Ну, а левую?" -- "Конечно, нет!" --
"Но позволил ли бы ты лишить глаза твои света за десять тысяч
рублей?" -- "Нет, Боже меня упаси!". Конечно, человек на это не
согласился. Тогда старец сказал: "Вот видишь, -- сказал он, --
какие богатства дал тебе Господь, а ты ещё ропщешь".
Допустим, что это был бедный человек без правой руки, без левой
руки, без глаз, стоящих десять тысяч рублей, -- и вот к нему
приходит старец и говорит: "Ты беден? Но у тебя есть желудок в
пятнадцать тысяч рублей, спинной хребет приблизительно в двадцать
тысяч!".
Толстой не лишён известной логики. Если он берётся за что-нибудь,
то ведёт свою линию и делает именно тот вывод, какой ему нужен. Он
не лишён и органов. Но самый центр мышления у него пуст. У
ладьи есть вёсла и оснастка, но в ней нет гребца.
А может быть, я сам лишён всякой способности разобраться во всём
этом. В таком случае моё мнение не имеет никакого значения -- это
только моё личное мнение. Я нахожу даже, что можно найти ещё худшее
философское убожество, нежели рассуждения Толстого.
Но он гораздо симпатичнее других своих коллег, играющих в
мыслителей. Потому что душа его так безгранично богата и так охотно
раскрывается. Он не замыкает своих уст после первых десяти слов и
не заставляет отгадывать скрытые за ними непостижимые глубины; он
всё говорит и говорит красноречивыми словами, предостерегая и
назидая: истинно говорю вам! Он вовсе не заботится о том, чтобы не
сказать свету лишнего, дабы свет мог только заглянуть в его душу;
он говорит более чем охотно. И в голосе его нет аффектации. Его
голос глубокий и сильный. Толстой -- древний пророк, вот что он. И
в наше время нет ему равного.
И люди могут прислушиваться к его словам, взвешивать их и
отводить им надлежащее место. Или же слова эти могут служить для
них поучением. И это возможно. Если людям только безразлично, что
их понятия о земном, возможном и разумном так беззастенчиво
извращают.
|
|
</> |

 Часы Casio: почему они остаются выбором номер один среди ценителей
Часы Casio: почему они остаются выбором номер один среди ценителей  Переговоры России и США начнутся на следующей неделе в Саудовской Аравии
Переговоры России и США начнутся на следующей неделе в Саудовской Аравии  Прогулка по любимому городу
Прогулка по любимому городу 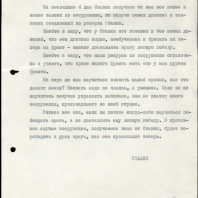 Архивные халтурщики. (статья прислана читателем)
Архивные халтурщики. (статья прислана читателем)  День памяти жертв Холокоста
День памяти жертв Холокоста  Путин в США
Путин в США  Книги Центра АСТ в магазинах государств бывшего СССР
Книги Центра АСТ в магазинах государств бывшего СССР  Вышла в свет книга ЦАСТ «У края»!
Вышла в свет книга ЦАСТ «У края»! 



