Михаил Меньшиков. «В деревне». 1909 год
 rubin65 — 20.09.2025
rubin65 — 20.09.2025
[начало] ... Усиленно идёт до сих пор по деревням разброска прокламаций революционного содержания. По словам одного священника, он в прошлом году ехал между двумя большими сёлами, и на расстоянии двадцати вёрст его возница, деревенский парень, набрал пук прокламаций, которыми потом оклеил избу. При этом священник мне, петербуржцу, рассказал даже содержание некоторых прокламаций, о которых я и не слыхивал. Что же, — спрашиваю священника, — действуют эти воззвания на крестьян? — И действуют, и нет, смотря по тому, в какие попадают руки. Наш приход глухой и бедный. Тут стоял когда-то монастырь, давно закрытый, но всё-таки в народе осталось некоторое тяготение к храму и старые понятия. Но есть, конечно, дураки, которых свихнуть нетрудно. Есть, например, тут мужик в деревне — старый и благочестивый. Прочитал он прокламацию в виде письма к государю и смутился: «Невож взабыль (неужто правда) царь перевёл казну к англичанке? — спрашивает. — Невож взабыль хочет Россию оставить?» Так — с истинно еврейскою добросовестностью — революционеры объяснили народу теперешние визиты государя к соседним дворам.

Говорю мужику: «Старый ты человек, Ефрем, и Бога боишься — как же ты мог поверить такой глупости? Как же тебе не стыдно задавать мне такие вопросы?» «Да я не ведаю, — говорит, — в газетине прочитал, стало быть, смекаю, правда». Как видите, смута идёт и просачивается вглубь. Старики ещё упорны, — а на парней эти бумажные поджоги действуют, и на иных — решительно. У нас, повторяю, народ крепче в религиозном отношении, но и у меня в приходе есть парни, которые прямо в глаза говорят: «Бога нет, попов не надо». Церкви всюду пустуют. Я ещё борюсь с этим, но трудно бороться. У нас революция прошла почти незаметно, были, правда, кое-где забастовки, но там, где исстари школы велись подозрительными учителями. Большинство деревенское не то не расчухало революции, не то не поверило ей. Но и у нас революция чрезвычайно сильно пошатнула умы. Старики ещё ничего, но молодёжь огрубела страшно. Если собираются к церкви, то ради девок, да вот чтобы подраться. Драчливость развилась ужасающая, и непременно до ножей, до увечий. В старину, как, может, помните, — орудовали кулаками, редко — кольями. Теперь у всех ножи, у парней — револьверы...
— Неужели револьверы? — переспросил я, изумлённый «прогрессом» родной сторонки. — У многих, — подтвердил священник. — Откуда берут они — не могу вам сказать. Должно быть, заграничные. Чаще — дешёвенькие, но есть и браунинги. Соберутся это парни и начинают стрелять. У нас в погосте была старинная ярмарка, но в последнее время она превратилась в безобразие, и я просил перевести её. Парни как-то начали драться — и ну стрелять из револьверов. — И убивают друг друга? — А то как же! Не только убивают, но ещё и бахвалятся этим. Тут недалеко два парня прикокошили двоих и целый день ходили, хвастались: вот, мол, мы какие — двух людей убили. Однако и сами оказались до того избитыми, что на другой день Богу душу отдали. К ранам относятся, как дикари. Один парень получил на ярмарке пулю в ногу и до вечера ходил истекая кровью, пока не свалился...
Ошибка думать, что революция ожесточает народ против только высших классов. Она вообще ожесточает, снимает тонкую организацию гуманных нравов, прививаемую культурой. Настроенные революционно крестьяне люты не с одними господами, но и друг с другом. Можно бы счесть жестокость молодёжи приливом энергии, если бы действительность не утверждала обратное. Одновременно с драками, стрельбой, поножовщиной замечается странная апатия тех же мужиков у себя дома и на поле. Работают всё хуже и хуже. В дождливую погоду огромная деревня тонет в зловонной грязи, и мужики сидят дома: дождь. Но если дождь мешает убирать хлеб, то что мешает тем же мужикам выехать за полверсты и навозить песку на общую их улицу? Или набить щебня, благо каменьев на полях — видимо-невидимо. Очищенная от грязи деревня сразу поздоровела бы и повеселела. Так нет: сидят себе по лавкам. Зевают да хмуро переругиваются. Едешь по несказанно грязной дороге и видишь, что вдоль её засеян хлеб. Значительная часть поля выбита телегами, объезжающими грязь, так как поле не огорожено. Идёт дождик, но бабы кое-где жнут мокрую рожь. Спрашиваю одну: — Нешто вы так богаты, что даёте топтать рожь телегам? — А да кто ж им даёт — сами ездют. — Так вы бы огородили поле или канавой окопали бы... — Ой, жедобный! Заставь наших мужиков! Ленюги ены и пьяницы. Сидят облоежи да зевают — вот и вся их забота. Старики, которые были, — померши, молодые гораздо умны стали. Вот и маемся...
Огородить своё поле от потравы — первая буква цивилизации, и это умели ещё в эпоху Каина. В нашем краю 50 лет назад поля, хоть и плохо, бывали отгорожены от дороги, изгороди, очевидно, попадали или были расхищены и уже не возобновляются. Больно смотреть, как спелые колосья втаптываются в грязь и как скотина у зазевавшегося пастуха забирается в самую гущу хлеба. — Почему же вы, в самом деле, не огородите дороги? — спрашиваю знакомого крестьянина. — Где ж тут её огородить? — отвечает. — Она длинная, полоса-то. Сколько кольев пойдёт, сколько жердей. Откуль их взять. Да и некогда нам!..
Как у всех неудачников, у нынешних мужиков такая складка: они всегда правы. Ни в чём себя не повинят, — во всём виноваты какие-то злые люди — бары, богатей, начальство. Чем они виноваты — мужик ясно не представляет себе, но у него безотчётное чувство, что виноват не он. Что ж, может быть, в каком-то важном отношении мужик прав. В конце концов, виноваты бары, богатей, начальство. Если бы высший класс был на высоте своей роли, он не выпустил бы из рук своих культурной власти над народом, не перестал бы быть двигателем народной силы и организатором её. У Манилова изгороди были разрушены и в крепостное время, но Собакевич не терпел такого безобразия. В дождливую погоду, когда убирать хлеб нельзя, мужики у Собакевича рубили в лесу колья и жерди, возили щебень на дороги, рыли канавы. Глядишь, дорогое время не было потеряно, и дождливая погода давала свой хороший вклад в хозяйство. В лице выродившихся Маниловых, Тентетниковых, Обломовых, Ноздрёвых от народа отошла в 1861 году вредная сила, но в лице Собакевичей, Костанжогло, Штольцев отошла сила очень полезная. В крепостное время если не сам помещик, то иной раз староста, обыкновенно — самый талантливый мужик — решал за всю деревню, что ей делать в затяжной дождь и что в вёдро. Все силы крестьянские бывали использованы, а не гибли в теперешней хмурой лени.
Прежде народ — даже доведённый до рабства — пел, — пел, потому что хорошо работал и был вследствие работы силён и свеж. Нынче и у нас старые песни забыты. Народ разучился петь. Поют гнусные частушки, а из больших песен мне назвали прославленную Горьким арестантскую песню («Солнце всходит и заходит»). Над озёрами, среди лесов и гор, уже нет-нет да и раздастся: «Вставай, подымайся, народ!»
* * *
Человека хоронят не потому, что он человек, а потому, что он перестал быть человеком. Крепостное право отменено не оттого, что оно было крепостным правом, а оттого, что оно перестало быть им, и в степени непоправимой. В 1861 году это был труп, теперь это — смрадное место, где на месте тления не сложилось ещё никакой жизни.

На крепостную эпоху справедливо смотреть, как на эпоху консерватизма. Благородный период этой эпохи именно и был таким. Аристократию следует понимать как постепенное усовершенствование, накопление силы и красоты. Капитал невозможен без бережения — вот происхождение консерватизма. Достижение, тщательная охрана, благородное использование — три определяющие момента аристократического склада общества, которое в старину было аристократическим сверху донизу. Прошлое, настоящее и будущее культурной жизни сливалось в этих трёх направлениях. К сожалению, феодализм наш, расстроенный татарами и сложившийся затем слишком поздно, окончился слишком рано. Достижение оказалось слишком лёгким; помещикам после Петра Великого дали без достаточных услуг чрезмерно много. Этим было подорвано консервативное начало — охрана достигнутого. Шальное богатство впрок не идёт. Одновременно с безоглядочной раздачей государственных имуществ начинается мотовство помещиков, распущенный, пьяный, бездельный образ их жизни. Мотовство — вещь абсолютно противоположная консерватизму. Использование доставшихся даром средств при мотовстве не могло быть благородным. Только труженик, собственность которого есть его душа, воплощённая в предметы, знает цену ей. Только честный труженик может тратить собственность благородно. Дворянское мотовство уже в крепостное время развратило народ соблазнами, приучило к небрежному, циническому отношению к труду.
Если есть ещё наивные люди, думающее до сих пор, что народ наш консервативен, то это смешная ошибка, не более. Может быть, народ был когда-то консервативен, сто лет назад, — но теперь этого нет, и это «нет» следует учитывать во всём его значении. Нынешний крестьянин — кроме разве глубоких стариков — почти равнодушен к Богу, почти безразличен к государству, почти свободен от чувства патриотизма и национальности, почти обездушен во всём, что когда-то составляло дух народный. Говорю «почти», чтобы отметить не полное отсутствие старых инстинктов, а лишь опасный упадок их. В старину, в патриархальные времена, крестьянин — как собака к будке — страшно привязывался к своему двору, к своей избе, к родной семье. Оторвать парня от дому бывало так же для него больно, как оторвать от тела живой орган. Куда бы ни забрасывала человека судьба, он мечтал, как о высшем счастье, о возможности попасть домой. Теперь не то. Теперь деревня разбредается, расползается по городам, разлезается, как гнилая ветошь. Парней и даже девок ничем не удержишь дома. Дома начинают тосковать, как прежде тосковали на чужой стороне. Города русские, не выполнив своей культурной миссии — просветить деревню, — начинают действовать антикультурно, развращая деревню. Как мошек на огонь, крестьянскую молодёжь тянет на лёгкие хлеба, на городские промыслы, на весёлую жизнь фабрик, трактиров, публичных домов. Нужды нет, что в городах крестьяне чаще всего попадают в унизительные условия прислуги и что хлеб городской оказывается иногда вовсе не лёгким. Крестьян, отбившихся от жизни, тянет попытать счастья в неопределённом, анархическом труде. Деревни полны легенд: такой-то вышел в купцы, такой-то обольстил купеческую вдову, такой-то получает в городе, сколько и во сне не снилось. Крестьянин знает, что ему придётся пройти в городе огонь, и воду, и медные трубы, но отчасти именно эта скитальческая жизнь, полная приключений, и тянет испытать её. В крови русского крестьянина много кочевых инстинктов. Шататься, бродить, бродяжить — любезное дело, особенно пока не стар. Молодая деревня тем охотнее бежит с разорённой родины, из невылазной грязи, из неудачнического, доведённого местами до идиотизма, хозяйства. Города наши затопляются полчищами безработных. Это люди хуже, чем не имеющие работы. Чаще всего они — не умеющие работать, бежавшие из деревни от своего неуменья, от странной лени, от неохоты жить, от неспособности ухватиться за что-нибудь и зацепиться. Вероятно, значительную часть громадной переселенческой волны составляют эти же «неприспособившиеся». Как ни быстро спивается с круга и погибает их полчище, оно представляет главную угрозу государству. Отбившемуся от земли крестьянству нет нужды читать анархические прокламации. Без всякой пропаганды эти люди уже анархисты. Как опавшие с дерева листья, они поневоле мечутся по земле, составляя сор её. Быстрый рост бродячего пролетариата представляет язву не одной России. Продукт нашей перезревшей цивилизации, он подготовляет катастрофу её.
«Не все же крестьяне бегут в города», — заметит читатель. Совершенно верно, отвечу я. Скажу более: из тех, что бегут в города, многие не порывают связей с деревней. Многие высылают в деревню заработанные гроши, и местами ещё большой вопрос, кто кормит кого: деревня ли город или город деревню. Всё так теперь извратилось и перепуталось, как в китайском калейдоскопе. Если я не ошибаюсь, однако, город всё-таки больше высасывает из деревни, чем даёт ей. Начиная с людей. Все талантливые молодые люди, из дворянских семей и из крестьянских, уходят обыкновенно из деревни навсегда. Трудно подсчитать, до какой степени это разоряет глушь. Выходит всё равно как если бы на огороде вы тщательно выпалывали самые удачные экземпляры овощей, а оставляли бы самые неудачные да сорную траву. Получилась бы не культура, а антикультура. Городская цивилизация обирает мужика, начиная с лучших его детей. Деревенская раса мельчает — не только вследствие недоедания, но и вследствие отбора лучших, что идут в города. Городское крестьянство тоже не Бог весть что, но всё же это гвардия народная, и нельзя предположить, чтобы земля не страдала от ухода с неё всего, что крупно.
Проехав десятка два деревень, я нашёл во многих из них перемену. Там, где невдалеке прошла железная дорога, мужики сильно поправились, главным образом от извоза. Это отразилось прежде всего на постройках. Появилось много светлых, обшитых тёсом изб, хорошо крытых соломой «под лопату». Есть крытые «лучинкой» (по-моему — щёгольской, но самый нелепый тип кровли, приспособленный как бы нарочно для пожара). Встречаются, и очень часто, избы в два, даже в три сруба, настоящие дома, хоть бы уездному городу впору. Окна — крупные, светлые, цветочки на окнах, занавесочки. Крайне редко, но встречаются уже полусадики, фруктовые садишки и огороды. По расспросам, вообще крестьяне чувствуют наклон к комфорту, черта и хорошая, и плохая, смотря по тому, представляет ли она следствие соблазна или потребности. Роскошь, как известно, и разоряет, и понуждает к труду. Лет тридцать назад крестьяне нашей местности, ещё не вышедшие из курных изб и лучинного освещения, набросились на новую одежду: ситцы, шелка, плис, сапоги, пиджаки и проч. Ситцевая мануфактура сильно разорила тогда крестьянство, убила тысячелетний бабий промысел — домотканое бельё и платье. Теперь, не знаю отчего — оттого ли, что крестьяне разорились или мода прошла, но одеваются беднее. В первый Спас я был на погосте — щелковиков у баб что-то уже не видно. Последние остатки древнерусских костюмов (сарафаны, повойники и проч.) совсем исчезли. У всех женщин — кофточки и юбки; у мужчин, даже у стариков, пиджаки. Совсем чухонщина, а не Россия. Стало быть, так у нас на роду написано: ведь и в старину у нас одежда была не своя, а татарская (сарафан, кафтан, армяк, зипун и проч.). Вместе с движением строить хорошие избы, чему в самом деле способствуют пожары, замечается большая требовательность в еде. Конечно, бедный крестьянин сидит на картофеле да на спитом чае, куда крошит хлеб, — но пушного хлеба, обычного в старину, уже не едят. Потребностью становится пеклеванный хлеб. Чуть побогаче, нынешний крестьянин любит поесть. Опять же это и хороший признак, и дурной, смотря по его происхождению.
До сих пор я ничего не сказал о пьянстве в деревне, хотя достаточно было бы как следует осветить эту сторону, чтобы трагедия деревни стала ясной. О пьянстве что же писать? Пришлось бы повторяться. Пьют по-прежнему, по-скотски пьют, погано и безобразно. Первого июля — большой ли, кажется, праздник? Всего лишь Маккавеи какие-то, еврейские генералы, которых нам чтить, казалось бы, решительно не за что. Притом будень день, суббота. Тем не менее по просёлочным дорогам брели шатающиеся пьяные. Гнусно видеть, как выписывает «мыслете» иной старик, и тут же идёт его дочка, внучата. Проезжаю станцию недавно построенной железной дороги. Пьяные валяются, как трупы, у вокзала и по улицам. «Смотрите, не раздавите человека!» — кричит женщина моему кучеру. А «человек» уткнулся носом в засохшую грязь, и тут же его рвота. Немного дальше молодой парень тащит двух пьяных стариков — один из них плешивый, другой в шляпе-котелке. В воздухе от всех троих висит самая зловонная ругань. Это, заметьте, на станции вновь открытой железной дороги, которую ждали сорок лет, тосковали о ней, мечтали. Она врезалась наконец во мхи и болота со своим паром и электричеством — и вот какое встречает культурное человечество!
Омерзительное пьянство народное — самое яркое доказательство отсутствия у нас — и уже с давних пор — внимательной власти. Чиновническому правительству, по-видимому, всё равно — гибнет народ от пьянства или не гибнет, вырождается он или не вырождается. В каждой крупной деревне теперь непременно открыта «казённая винная лавка» нумер такой-то, да сверх того всюду пошли пивные лавки. Жадный до водки — пьют её иные уже не рюмками, а чайными стаканами, — народ наш оказался крайне жадным и до пива. «Корова столько не выпьет воды, сколько мужик пива», — говорили мне в одной деревне. Пьют уже не бутылками, а ящиками, по дюжине, по две дюжины бутылок на брата... Кроме казённых кабаков в каждой деревне в двух-трёх местах есть тайная продажа водки. Она всего на четыре копейки дороже казённой, считая бутылку. Русское пьянство народное вступает, по-видимому, в период какого-то особого психоза. Оказывается, у нас в большом распространении, кроме водки, так называемая «ликва». Это уже не спирт, а какой-то эфир, рюмка которого, как мне говорили, стоит семь копеек. Пахнет ликва гофманскими каплями, от неё дух захватывает и как будто насквозь пронизывает человека. Прельщает в ликве то, что нужно, в противоположность пиву, немного её, чтобы человеку совсем обалдеть. Торгуют ликвою тайно. Привозят её главным образом жиды из Варшавы, из Лифляндии. В большом употреблении и другая отрава, привозимая евреями тоже тайно, — именно, «сахарин». Крестьяне сыплют сахарин прямо в самовар и пьют эту ядовитую сладость без конца. Проявляй у нас более внимания к народной жизни правительство, агенты его, вероятно, давно бы подметили эти операции гг. евреев с ликвой и сахарином, и мне не пришлось бы писать об отравах, вошедших уже в обычай.
Любопытно, до какой степени евреи опутывают труд народный даже в губерниях по эту сторону «черты оседлости». У одного деревенского сапожника вижу две пачки шпилек — деревянных гвоздиков, которыми подбивают подошвы. Несмотря на обилие леса, которого здесь девать некуда, сапожных шпилек местные люди не умеют делать. Приходится покупать их в чухонщине, с немецких фабрик. «Есть, — жаловался мне сапожник, — шпильки еврейского приготовления, но представьте себе — оказываются ольховые вместо берёзовых! Ломаются, и подошвы отлетают». И тут, стало быть, начиная с подошв христианских, еврей даёт себя знать. Особенно тяжела еврейская лапа для трудящихся крестьян, покупающих землю. Облюбовал, например, крестьянин пустошку или усадебку у прокутившегося барина. Надо, скажем, восемь тысяч заплатить, а скоплено всего две тысячи. Приходится обращаться в банк, просить денег под залог земли. Ещё до учреждения «Крестьянского банка» еврейские банки начали свои операции по этой части и успели забрать громадное количество земель. Наголодавшись на наделе, крестьянин думает, что стоит ему купить полсотни десятин — и он барин. На деле выходит не то. Начать сразу интенсивную культуру мужик не может: нет ни оборотного капитала, ни инвентаря, ни подходящих знаний. А трёхполье едва-едва выгоняет ему проценты в банк, причём каждый год обыкновенно мужик платит пени, не будучи в состоянии поспеть в срок. Чуть запутался мужик, пеня нарастает. Идут годы, десятилетия, а мужик всё платит, да платит евреям и никак расплатиться с ними не может. Нужды нет, что еврей отгорожен «чертой оседлости». Он и оттуда достаёт зазевавшегося русака — будь то мужик или барин...
О деревне хотелось бы говорить без конца: ведь это тело России, её плоть и кровь. Но что ж говорить? «И погромче нас были витии», да что толку. Чувствуешь громадный стихийный процесс, остановить который едва ли вообще в человеческих силах. Была консервативная пора, когда всё складывалось так, что людям хотелось достигать, накапливать и сохранять. Сто тысяч трудовых дворянских хозяйств точно гвоздями приколачивали культуру к полудикой земле и оберегали её богатства. Хорошие помещики очень берегли своё добро, берегли леса от порубок, озёра и реки от истощенья, берегли землю от выпашки, берегли народ от пьянства и беспутства. В этом и состоял тогда консерватизм. Теперь огромные некогда леса погублены евреями. Озёра и реки опустошены. Поля повыпаханы. Народ опустился и опаршивел — простите за выражение, оно сельскохозяйственное.
Как паршивеет и вырождается скот на плохом корму, так и народ. В результате падения крепостного права через 50 лет после его отмены вы видите ограбленную природу и опустошённого человека. Одичание деревни идёт, мне кажется, большими шагами. Как его остановить — придумать трудно. Правительство собирается вводить всеобщее обязательное обучение и финансировать народный труд. Но за эту поездку в деревню я ещё раз убедился, что ни школа, ни капитал не возрождают крестьянина при теперешнем его душевном складе. Школа не спасает народ ни от пьянства, ни от лени, ни от невежества: она только обостряет социальное недовольство и плодит претензии. Капитал для нынешнего крестьянина (за редким исключением) ни к чему. Видел я и нескольких кулаков, то есть крестьян с деньгами. Только и умеют, что пивную открыть либо лавочку, где хищничают вовсю. Денег много, а то же остаётся хамство, почти та же грязь и никакой попытки вложить деньги в культуру, в организованное производство. Богатый мужик осуществляет лишь то, о чём мечтает бедный: вволю водки, селёдки, чай, пуховик, баба, хорошая пара лошадей на выезд — и больше ничего. Растущий капитал пускается в дальнейший рост, а хозяин, оплывающий жиром, сидит на лавке в калошах на босую ногу, зевает да ждёт мух в свою паутину. Таков богатый мужик — за редкими, повторяю, исключениями. Если бы все мужики вдруг разбогатели, Россия всё равно была бы пропащей страной. Не в хлебе едином нуждается Россия!
■ «Выше свободы» [ссылка, викитека]. 1909 г.
|
|
</> |

 Важное значение образования для развития инклюзивного спорта
Важное значение образования для развития инклюзивного спорта  "Shrines of Gaiety" — Кейт Аткинсон — английский ответ "Великому Гэтсби"
"Shrines of Gaiety" — Кейт Аткинсон — английский ответ "Великому Гэтсби"  Оказывается, человечество решило проблему малопьющей жены
Оказывается, человечество решило проблему малопьющей жены 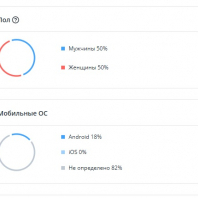 Ой...
Ой...  Ученые опровергли слова Путина о возможности бессмертия
Ученые опровергли слова Путина о возможности бессмертия  А не прогуляться ли нам?! Дочь Упы, деревня Луковицы и осенняя халява
А не прогуляться ли нам?! Дочь Упы, деревня Луковицы и осенняя халява  Откуда черпает вдохновение Кент Монкман
Откуда черпает вдохновение Кент Монкман  «Кричалки унд вопилки»
«Кричалки унд вопилки»  "Динамо" бежит? Все бегут!"
"Динамо" бежит? Все бегут!" 



