Миф о гонениях, ч.45
 anchoret — 17.10.2023
Глава 6
anchoret — 17.10.2023
Глава 6Мифы о мучениках
Представьте себе дорогу, проложенную посреди пустыни. Это главная магистраль для торговцев, перевозящих товары, и прочего люда, едущего по делам из одного города в другой. Маршрут кишит бандами террористов, которые охотятся на богатых коммерсантов, государственных чиновников и иностранцев. Они нападают на путешественников, отнимая добро и жестоко расправляясь с его владельцами. Бандиты принадлежат к той же группе, что берёт на себя ответственность за многие другие акты насилия, в том числе нападения террористов-смертников на церкви в соседних городах. Хотя их численность невелика, а средства ограничены, через свою гнусную жестокость они становятся печально известны во всем цивилизованном мире, который их боится и проклинает. Их конечная цель – мученическая смерть. Смерть, которая, как они верят, принесет им честь, славу и небесные награды.
Представили? Так вот люди, о которых идет речь, это не современные игиловцы, а группа древних христиан, известных как циркумцеллионы. Они представляли собой радикальное крыло донатистов Северной Африки в IV-V вв. Название они получили из-за образа жизни – «вокруг (circum) сельских жилищ (cellas) бродящие». (Есть мнение, что под cellas разумелись не жилища, а усыпальницы мучеников – мартирии). Донатисты образовали раскол с официальной церковью, которую составляли более умеренные христиане европейского типа, такие как Блаженный Августин. Хотя кафоликами и ортодоксами называли себя христиане Августина, имеется вероятность, что у донатистов было больше прав представлять североафриканское христианство. Раскол между двумя группами случился в начале IV века после первого эдикта Диоклетиана, когда клирики, чтобы избежать преследований, сдали властям имевшуюся религиозную литературу и подались в бега. Те, кто остался в городах (особенно в Карфагене – крупнейшем городе Северной Африки и одном из наиболее крупных и процветающих городов Римской империи), те назначили своих собственных священников и епископов, что в конечном итоге привело к расколу между новым и старым духовенством.
Если мы посмотрим на историю борьбы между обеими группами, то скорее проникнемся симпатией к донатистам. Со своей точки зрения они являлись подлинной народной церковью – той группой, что мужественно противостала римлянам, когда богатое духовенство сбежало в безопасное место или, что ещё хуже, сотрудничало с гонителями. Они сопротивлялись, используя единственное, что у них было – собственные жизни. Но при этом невозможно испытывать ничего, кроме отвращения, к действиям циркумцеллионов, которые терроризировали всю округу за пределами городов и убивали ни в чём не повинных христиан.
Отцы церкви говорят о безумии циркумцеллионов и их суицидальных наклонностях: «Они сами себя умерщвляют из любви к мученичеству, дабы, оторвавшись от этой жизни насильственным образом, заслужить звание мучеников». Возможно, что циркумцеллионы стали жертвой чёрного пиара, и что они не были ни столь жестокими, ни столь склонными к самоубийству, как хотят нас заставить поверить церковные историки. Однако они проливают свет на одно из самых распространенных заблуждений о раннехристианских мучениках – представление о них, как о смиренных пацифистах, безропотно принимающих муки из любви к Иисусу. Сложившийся образ часто противопоставляется – явно или неявно – мученикам других религий. В последние годы их особенно часто соотносят с мусульманскими мучениками, но прежде на их месте побывали представители многих других религий, даже неортодоксальных христианских конфессий. Смысл этих сравнений в том, чтобы показать – христианские мученики хороши, они – настоящие мученики. И пусть так, но если принимать в расчёт истории, подобные приведённой выше, то реальность оказывается гораздо сложнее сформировавшегося образа.
Самоубийство и добровольное мученичество
Около 180 года в Пергаме собралась толпа народу поглазеть на казнь христианского епископа Карпа и его дьякона Папила. Зрелище никого не оставило равнодушным. Обоих мужчин привязали к столбу и подожгли, но те отнюдь не кричали от боли, а с полным самообладанием мужественно переносили свои страдания. Одна женщина по имени Агафоника наблюдала за ними из толпы с большим участием. Как сказано в житии, она увидела «славу Господню» и истолковала это как небесный зов присоединиться к мученикам. Сорвав с себя одежды, она объявила: «Эта трапеза для меня приготовлена, итак, мне нужно поучаствовать, съесть славную трапезу!» Зрители кричали Агафонике, чтобы она пожалела своего сына, но та ответила, что о нём позаботится Бог, а сама радостно бросилась к столбу, вокруг которого был разведён огонь. Палачи возвели её на костер и, охваченная пламенем, она псаломским стихом воззвала к Богу, призвав его на помощь. Так она погибла, и христиане сохранили её останки наравне с останками других святых.
Это все, что мы знаем об Агафонике. Была она рабыней или респектабельной матроной? Сколько лет было её сыну? Была ли она вообще христианкой до того, как увидела казнь Карпа и Папила? Пришла ли она туда с готовым намерением покончить с собой? Мы ничего не знаем. Утверждение автора, будто у Агафоники случилось видение славы Господней, ничем не обосновано. Она же не сказала, что ей представилось в видении и было ли видение вообще; она просто заявила, что «эта трапеза приготовлена для неё». Единственный ключ к разгадке её личности может содержаться в упоминании её одежды. В оригинале сказано, что она сорвала с себя плащ, а это одеяние философа. Древние греки и римляне знали гимнософистов («нагих философов») – индийских философов-аскетов, пренебрегавших одеждой и якобы приносивших себя в жертву на погребальных кострах. Можно, конечно, предположить, что Агафоника была кем-то вроде гимнософиста, но кем она была на самом деле и почему решила броситься в огонь, остаётся полной загадкой.
Придётся согласиться, что по мнению любого современного человека смерть Агафоники – это чистое самоубийство. В самой ранней греческой версии жития она представлена лишь как сторонний наблюдатель. Её там никто не арестовывает, тем более не приговаривает к смерти. Тем не менее, автор не замечает в её поведении ничего странного и просто описывает как ещё одну из мучениц. Подобно другим мученицам она говорит словами из псалмов, когда «предаёт» свою жизнь Богу, и так же, как у других, её останки сразу становятся объектом почитания. Более поздний латинский автор отредактировал текст, и Агафоника оказалась в числе арестованных и допрашиваемых христиан, но в ранней версии она самостоятельно совершает явный суицид, и это не смущает ни автора, ни читателя: для них Агафоника – святая.
В раннем христианстве это не единственный случай суицидального поведения. Мы уже приводили рассказ Тертуллиана о том, как во II веке в Малой Азии тысячи христиан стучались в дверь римского проконсула и требовали, чтобы их казнили за исповедание своей веры. Римский чиновник отослал их прочь, и похоже, что разошедшись по домам целыми и невредимым, разгоряченные христиане ощутили разочарование.
Есть и более тонкие примеры. Когда один из первых христианских апологетов Иустин Философ рассказывает о двух добровольцах в «Мученичестве Птолемея и Луция» – собственно Луции и другом, неназванном человеке – то он не делает разницы между их гибелью и смертью Птолемея. Хотя Иустин не применяет термин «мученик» ни к одному из своих персонажей, он определённо считает, что их смерть была добродетельной и благой. У него нет и намёка на осуждение анонимного христианина, о котором он сообщает только, что тот добровольно вызвался на смерть. Если бы его поведение хоть немного смущало Иустина, он дал бы это понять или вовсе не стал бы упоминать незнакомца.
Нас может удивить, что такие авторитетные церковные писатели и святые, как Иустин, благосклонно принимали идею добровольной смерти. Ведь в современном мире христиане резко осуждают суицид. В ортодоксальных церквях Запада и Востока самоубийство рассматривается как преступление против Бога. Хотя нынешняя позиция смягчилась, до недавнего времени самоубийц нельзя было ни отпевать, ни хоронить на общих кладбищах. Правда, такая точка зрения формировалась долгие столетия, а в древнем мире большинство людей принимало самоубийство ровно и даже считало его благородным и мужественным. В случаях военного поражения или неудачной попытки политического переворота лучшим способом для военачальника или заговорщика сохранить лицо и защитить свою семью было самоубийство. С собою покончил образцовый античный персонаж – Сократ. Хотя его и приговорили к смерти, он всё равно с готовностью выпил яд сам, что технически является самоубийством. Ни в одном из описаний благородной смерти нет указаний на малодушие, отчаяние или трусость тех, кто сводит с жизнью счёты. Напротив, самоубийство обычно подавалось как проявление полного самоконтроля и достойное завершение жизни.
Среди древних евреев при определенных обстоятельствах самоубийство тоже оценивалось весьма почтительно. Одним из героев восстания Маккавеев по имени Разис был старейшиной в Иерусалиме, где его все любили, уважали и называли «отцом евреев». Когда враги попытались схватить Разиса, он бросился на свой меч, чтобы покончить с собой. Однако удар оказался неточен, и тогда он кинулся со стены в гущу вражеских солдат. После падения старейшина снова выжил, и тогда, истекая кровью, он бросился сквозь толпу к отвесной скале. «Совершенно уже истекая кровью, он вырвал у себя внутренности и, взяв их обеими руками, бросил в толпу и, моля Господа жизни и духа опять дать ему жизнь и дыхание, кончил таким образом жизнь» (2 Макк 14:37-46).
Повествование о смерти Разиса редко попадает в сборники историй о мученичестве, но в Книге Маккавеев он стопроцентный герой. Его смерть вписывается в схему, согласно которой после смерти героя у евреев наступает период новых военных успехов. Богослов мог бы объяснить это тем, что смерть мучеников служит жертвоприношением во искупление общего греха народа, и что евреи побеждают, очистившись таким образом от грехов. Социолог мог бы возразить, что людей мобилизует драматизм актов проявления силы духа нации в лице её лучших представителей. В любом случае есть закономерность: выдающиеся смерти приводят к грандиозным победам. Между самоубийством Разиса и смертями других мучеников Маккавейских не делается никакой разницы, и это явно показывает, что в те времена смерть Разиса не выглядела странно или неприемлемо, но считалась нравственно идентичной остальным проявлениям мученичества, описанным в Маккавеях.
Именно в таком контексте нам и следует рассматривать христианское отношение к мученичеству. Нас не должно удивлять, что писателей II века никак не смущали примеры мученичества, которые мы считаем суицидальными. Хотя более позднее поколение христиан осудило бы добровольное мученичество именно за то, что оно было своего рода самоубийством, многие ранние христиане, включая священнослужителей, нарочно искали страданий и смерти. Довольно интересны обстоятельства, при которых христиане стали воспринимать добровольное мученичество как нечто плохое. Хронологически самым первым, кто выступил против него, явился Климент Александрийский – христианский философ, бежавший около 202 года из Александрии, опасаясь ареста. Климент осуждает добровольное мученичество как нечто, совершаемое еретиками:
Есть и другого рода люди, не имеющие ничего общего с нами кроме имени, на деле же христианами не состоящие. Они уже преднамеренно ищут смерти, бегут навстречу палачу и отдают себя на смерть, делая это из ненависти к Творцу. Несчастные! …Относительно этих самоубийц мы провозглашаем: Смерть их не есть мученичество, хотя они и бывают казнимы по приговорам власти государственной.
Большинство ученых полагает, что Климент говорит об адептах «Нового пророчества», или монтанистах, которых он и последующие поколения христиан осуждали как неразумно искавших мученичества. При изучении истории церкви люди легко соблазнялись обвинениями в адрес монтанизма, исходившими от Климента. Некоторые ученые даже укрепились в мысли, будто добровольное мученичество было настолько важно для монтанистов, что от других христиан они отличались только своим безудержным стремлением к нему. Проблема в том, что это утверждение объективно ничем не доказано. Помимо трудов ортодоксальных христиан нет никаких свидетельств, что монтанисты проявляли себя большими сторонниками добровольного мученичества, чем сами ортодоксы. А Климент пишет о данной проблеме ещё и сообразно с личной выгодой. Как человек, сбежавший от опасности гонений, он рисковал прослыть трусом. И чтобы оправдаться наверняка, он догадался обосновать своё поведение христианским вероучением, то есть осудить стремление к мученичеству как ересь.
Осуждение было подхвачено другими христианами ортодоксального направления, и оно начало формировать мнение людей о самоубийстве и добровольном мученичестве как о чём-то, чем занимаются еретики. Решающий сдвиг в общественном сознании произошёл благодаря Августину, который в своей работе «О граде Божьем» закрепил осуждение добровольного мученичества как самоубийства ссылкой на авторитет Священного Писания. Решительное и довольно резкое осуждение самоубийства было сделано Августином не только исходя из собственных нравственных установок или философских рассуждений; это был также практический и весьма актуальный в тот момент вопрос. Августин реагировал на разграбление Рима, во время которого обесчестили многих женщин, из-за чего они потом кончали с собой. Кроме того, он жил в Северной Африке, когда её терроризировали циркумцеллионы. А стоявшие за ними донатисты были конкурентами в борьбе за души верующих. Можно не сомневаться, что взяться за тему самоубийства Августина сподвигли именно донатисты и события в Риме.
В итоге мы видим, что христиане погибали не только в результате гонений. Некоторых раннехристианских мучеников вдохновляла идея добровольного мученичества, носившая по современным меркам отчётливо суицидальный характер. Хотя такие христиане, по всей очевидности, и не составляли большинства, мы не можем делать вид, будто их не существовало вовсе. Желанием умереть горело немало христиан. И восторжествовавшее неприятие их позиции имеет как этические основания, так и исторические корни. Если бы не донатисты и опыт Августина, то отношение христианства к самоубийству и добровольному мученичеству могло бы оказаться совсем иным.
|
|
</> |

 Цель МСКТ брахиоцефальных артерий
Цель МСКТ брахиоцефальных артерий  Фруктовый рай
Фруктовый рай  Таки да
Таки да  посмотрел: "Большое смелое красивое приключение" (A Big Bold Beautiful
посмотрел: "Большое смелое красивое приключение" (A Big Bold Beautiful  За что "сидел" Королёв
За что "сидел" Королёв  Представьте, сотни граммофонов, патефонов, радиол, магнитофонов, джук-бокс, и
Представьте, сотни граммофонов, патефонов, радиол, магнитофонов, джук-бокс, и 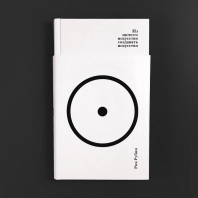 Источник творчества
Источник творчества  Продукты, которые принесут максимум пользы, если есть их вместе
Продукты, которые принесут максимум пользы, если есть их вместе  Сокращусь, исчезну, как Протей
Сокращусь, исчезну, как Протей 


