Магические перстни-талисманы русской поэзии — часть 1
 tuchiki — 25.01.2025
tuchiki — 25.01.2025
Часть 1 ----> Часть2
…О, как, мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней…
Цветаева посвятила эти прелестные строки молодым генералам 12-го года, годами лишь немногим старше Пушкина, подчеркнув, что руки «очаровательных франтов минувших дней» были усыпаны перстнями. Дюма-отец, совершивший свое знаменитое путешествие по России в середине 19-го столетия, так же оставил свидетельства о том, что «рука русского зачастую унизана кольцами». Но мы начнем наш неторопливый рассказ о легендарных перстнях-талисманах не с 19-го столетия, а вовсе издалека.
В античные времена, «кольца/перстни-печатки» использовались не столько как украшение, сколько в чисто прагматических целях. Как личная печать (для запечатывания писем сургучом), доступ к которой имел только сам её владелец. Поскольку печатка всегда находилась на руке владельца, её, в отличие от обычной печати, невозможно было в тайне от хозяина похитить и крайне сложно подделать. В Средние века перстни служили для демонстрации дворянского достоинства их владельца. В наше время этот вид ювелирных изделий, в особенности, если это массивный перстень с крупным бриллиантом, свидетельствует лишь о завидных финансовых возможностях купившего его человека.
паКроме практических целей, из всех аксессуаров, именно кольца, и их разновидность - перстни, с давних времен наделялись мистически-загадочными свойствами, что сообщало им охраняющие или обольщающие функции, превращая в амулеты, обереги, талисманы. И, конечно, кольцам и перстням приписывались самые разнообразные свойства в любовных коллизиях. Они служили залогом верности влюбленных, оберегом для возлюбленного… Но, случалось, и, залогом… смерти. Таких перстней следовало опасаться: под большим и красивым камнем они скрывали потайное отверстие с отравой-порошком.
Почему-то представляется, что, пушкинский Сальери, отворяет именно такой перстень, чтобы отравить Моцарта: «Вот яд, последний дар моей Изоры. Осьмнадцать лет ношу его с собою…». Но в фильме-опере 1963-го года, где Моцарт – Смоктуновский, Сальери использует в качестве «последнего дара Изоры» - кулон на массивной цепи. В гениальных «Маленьких Трагедиях» Швейцера, где Смоктуновский уже в роли отравителя Сальери, это - четки, одна из бусин которых хранит яд. Такие кино-разночтения вызваны тем, что Пушкин, создавший наиболее убедительную в художественном отношении мифологию об отравлении гения, ни словом не упоминает о сосуде хранения смертоносной отравы, а отделывается в «Моцарт и Сальери» не просто лаконичной, но почти грубоватой авторской ремаркой: «Бросает яд в стакан Моцарта».
Незаметно, но верно «веселое имя - Пушкин» вплотную приблизило нас к первой главе этих заметок.
Внезапно ангел утешенья, влетев, принес мне талисман – о перстне-печатке Пушкина
У Пушкина, помимо любимой (кроме еще двух) трости с аметистовым набалдашником, было семь перстней. По его собственному признанию у него была «бабья страсть к этим игрушкам». Будучи верным сыном своего века, он безоглядно верил в их мистическое предназначение. Другими словами, считал их талисманами — оберегами, спасающими от беды и приносящими удачу. В то время считалось, что только дареное украшение приобретает особую силу и становится талисманом, обладающим магической властью. За каждым перстнем – своя история. Из этой коллекции остались неутраченными лишь два, которые ныне хранятся в доме-музее Пушкина на Мойке. У нас же речь пойдет лишь об одном из семи, и как раз – об утраченном. А именно, о сердоликовом перстне-печатке, подаренным поэту Елизаветой Воронцовой, женой генерал-губернатора Новороссийского края, бывшей в одесский период его южной ссылки одним из самых страстных увлечений поэта, и представленной позже в его «Донжуанском списке» под номером 12.

Тут необходимо сделать довольно внушительную вставку под условным названием «Одесса. Страсти по Пушкину».
Итак, 3 июля 1823 года Пушкин переезжает из до смерти опостылевшего ему Кишинева, («Проклятый город Кишинёв! Тебя бранить язык устанет. Когда-нибудь на грешный кров твоих запачканных домов небесный гром, конечно, грянет.») в Одессу под начало генерал-губернатора графа Воронцова, чтобы стать чиновником его канцелярии в чине коллежского секретаря.
Одесса того времени —блистательный, динамически развивающийся приморский город, населенный многими языцами. Город, дышащий непривычной для России того времени свободой. Город беспошлинной торговли и бесцензурного пропуска газет. Город с великолепным оперным театром, дворцами знати, с прекрасными ресторациями у моря, а еще, с казино, кабаре, и прочими увеселительным заведениями, где «наше все» разгульно проводит время за картами и дружескими попойками. Ничего себе такой получился у Пушкина второй период южной ссылки».

Впрочем, этот по-гусарски бесшабашный уклад жизни не мешает его работе над тем, чему в свое время на его родине предстоит войти первым разделом во все школьные учебники по литературе. Кроме гениальных “Цыганы» (незакончено), "Свободы сеятель пустынный", "Демон", "Телега жизни", и много другого, он пишет в Одессе и первые главы «Евгения Онегина», задуманного им еще в Кишиневе, где «сквозь магический кристалл» он виделся ему еще не совсем ясно… Написанная позже глава «Путешествия Онегина» навечно прославит этот приморский город:
Я ЖИЛ ТОГДА В ОДЕССЕ ПЫЛЬНОЙ...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали...
Пушкину 24. Он молод, беспечен, талантлив. В кампании таких же светских шкод, он гуляет по бульварам, пьет в кофейнях кофе по-турецки с гущей, запивает шампанским черноморских устриц… День он обычно начинает с купания в море, а заканчивает в опере или казино. Но тут стоит отметить, что он еще не слишком знаменит и, потому, беден. Служит (как бы) чиновником, получает скромные 700 рублей в год серебром, которые презрительно называет «паек ссыльного», а скупердяй отец денег не шлет. Поэтому куражиться все чаще вынужден в долг.
От позора спасает его князь Вяземский, выславший ему фантастический по тем временам гонорар за опубликованный им «Бахчисарайский фонтан» — 3000 рублей, т.е. четыре его годовых заработка в канцелярии Воронцова. Считается, что с этого момента литература в России сделалась профессиональным занятием. До того литераторы получали от издателей в среднем по 500 рублей за книгу. Получив деньги Вяземского, поэт разбрасывает долги с балкона гостиницы возившим его в кредит одесским извозчикам. По местной легенде так улетело 2000 рублей.
Так что, и в куда в менее чопорной, чем Петербург или Москва, Одессе его повадки и внешний вид (он носил необычайно длинные ногти) вызывали такое недоумение, что он получил прозвище «бес арабский».
В общем, понятно, что чиновником он был - так себе, ведь на службу времени почти не оставалось. Оно уходило на карты, шампанское, сочинительство, и женщин.
С будущей дарительницей сердоликового перстня Пушкин познакомится в Одессе через два месяца по приезде туда из Кишинева. У 31-летней Елизаветы Воронцовой, влиятельной хозяйки первого в городе светского салона, была тогда масса поклонников, что подвигнуло Пушкина немедленно и без памяти в нее влюбиться и добиваться взаимности, хотя в то время у него самого был бурный роман с другой замужней, но куда более эксцентричной, нежели хорошенькая губернаторша, женщиной. Амалия Ризнич – полуитальянка-полунемка - жена богатого серба-негоцианта, живущего в Одессе, числилась все в том же составленном самим Пушкиным Донжуанском списке даже номером раньше Воронцовой, одиннадцатой. Но она не догадалась подарить Пушкину перстень с печаткой – и поэтому ее иступленные отношения с поэтом, (в любом случае требующие отдельного очерка), не войдут в этот обзор. Поднаторевшие в «теме» читатели могли бы пополнить список одесских муз Пушкина (среди которых победа, без сомнения, осталась за Воронцовой) именем красавицы-польки (замужней, разумеется) Каролины Собаньской. Но там не обнаруживается ни перстня, ни присутствия имени в знаменитом списке. Так что, можно было бы с чистой совестью возвратиться к оставленному нами прощальному подарку графини Воронцовой, если бы не еще один достаточно деликатный предмет…
Дело в том, что в Одессе Пушкин был участником не каких-то там
заурядных любовных треугольников, а скорее – многоугольников.
Амалию Ризнич, по раннее указанной причине, в рассмотрение не
принимаем. Хотя Пушкин, представьте, ревновал ее не к добродушному
мужу, а к другому ее любовнику. Это увековечено в гневно
вопрошающей соперника строфе его «Простишь ли мне ревнивые
мечты»:
…Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?...
Но о многоугольнике Пушкин-Воронцова-Раевский-Воронцов мы просто не можем не упомянуть, хотя никакой корреляции с главным героем нашего повествования, сердоликовым перстнем, тут не просматривается.
Да, в любовной истории с Воронцовой был еще один персонаж: правнук Ломоносова, брат «декабристки» Марии Волконской, полковник Александр Раевский, четырьмя годами старше Пушкина, и некогда имевший огромное влияние на его мировоззрение. Он служил чиновником особых поручений при губернаторе Новороссии. Друзья вхожи в дом губернатора, являясь частыми гостями на светских обедах Воронцовых в их роскошном новом дворце – губернаторской резиденции на Приморском бульваре. Дерзкий и циничный Раевский, презирающий многие условности и правила высшего света, был до безумия влюблен в Елизавету Воронцову, и к приезду Пушкина в Одессу они уже были, как сегодня говорят, «в отношениях». Вначале он использовал влюбчивого Пушкина как ширму для прикрытия своей любовной интриги с губернаторшей, но потом, заподозрив в нем более удачливого соперника, убедил генерал-губернатора отправить поэта «на саранчу» — проверять уезды, подвергшиеся нападению прожорливых насекомых.

О неприглядном поведении Раевского сохранилось живое свидетельство Филиппа Вигеля, виднейшего мемуариста пушкинской эпохи:
«Я не буду входить в тайну связей А. Н. Раевского с гр.
Воронцовой; но могу поручиться, что он действовал более на ее ум,
чем на сердце или чувства... Как легкомысленная женщина, гр.
Воронцова долго не подозревала, что в глазах света фамильярное ее
обхождение с человеком, ей почти чуждым, его же стараниями
перетолковывается в худую сторону... Козни его, увы, были пагубны
для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина нетрудно было привлечь
миловидной Воронцовой, которой Раевский представил, как славно
иметь у ног своих знаменитого поэта... Вздохи, сладкие мучения,
восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему
беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его
видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом,
самым искусным образом дурачил его!
Еще зимой чутьем слышал я опасность для Пушкина и раз шутя сказал
ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить
его с Отелло, а Раевского с неверным другом Яго. Он только что
засмеялся».
Видимо, по свойственной поэтам рассеянности, запамятав о 700-ах рублях серебром, которые он не брезговал получать на службе, Пушкин был глубоко оскорблен служебной командировкой «на саранчу», и отчет о проделанной работе представил в более чем лапидарном формате: «Саранча летела, летела и села; сидела, сидела, все съела и вновь улетела». Когда этот скрупулёзный рапорт коллежского секретаря Александра Пушкина лег на стол его начальника, генерал-губернатора Новороссии и наместника Бессарабии, разразился скандал.
Старому своему другу Александру Тургеневу Пушкин писал об этом инциденте так: «Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения начальника, мне надоело, что со мною в моем отечестве обращаются с меньшим уважением, чем с первым английским шалопаем. Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое».
От предавшего его друга Пушкин, имея на это все основания, отрекается в своем «Демоне»:
…Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
А вот мужа своей любовницы, генерал-губернатора Воронцова, «наше
все» успел припечатать сколь убийственной, столь и несправедливой
эпиграммой:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
Каждое слово здесь – намеренная ложь. Говоря сегодняшним языком – деза.

Михаил Семенович Воронцов – чьей крёстной матерью была сама Екатерина Великая, доблестный герой Отечественной войны 1812 года, сын известного дипломата екатерининской эпохи, блестяще и разносторонне образованный человек, ни одним своим деянием не заслужил этого разухабистого поклепа на себя.
Отправляясь на излечение после ранения под Бородином, он отказался от эвакуации имущества из своего богатейшего дома на Немецкой улице в Москве, для чего из деревни было прислано 200 подвод. Воронцов приказал вывезти на этих подводах раненых в свое имение, и спас этим 50 раненых генералов и офицеров и более 300 нижних чинов. При этом он взял на себя все расходы на раненых. Во время заграничного похода русской армии, перед выводом оккупационного корпуса из Парижа в 1814-ом году, Воронцов приказал собрать все долговые расписки офицеров и солдат, и из собственных средств заплатил французским питейным и увеселительным заведениям все их долги на гомерическую сумму в 1,5 миллиона рублей. Чтобы расплатиться c французскими кредиторами, он был вынужден продать свое наследственное имение.
Теперь эпиграмма Пушкина на человека такого достоинства и чести не кажется уже столь забавной, не правда ли? И надо ли упоминать, что в свое время характеристика графа, заданная эпиграммой Пушкина, была тем единственным знанием о выдающемся государственном деятеле России графе Воронцове, которое нескольких поколений советских школьников вынесли из школы.
Справедливости ради, следует так же отметить, что во всем этом любовном многоугольнике именно граф Воронцов вел себя наиболее достойным образом, возможно долго не отказывая своему подчиненному от дома, невзирая на его почти открытый флирт с его женой и на чуть не публичные из-за нее разборки с Раевским.
Правда, существуют и другие соображения относительно природы долготерпения обманутого мужа. По воспоминаниям современников, Воронцов умел выждать удачное время для мести, усыпив бдительность жертвы:
«Чем ненавистнее был ему человек, тем приветливее обходился он с ним; чем глубже вырывалась им яма, в которую собирался он пихнуть своего недоброхота, тем дружелюбнее жал он его руку в своей. Тонко рассчитанный и издалека заготовляемый удар падал всегда на голову жертвы в ту минуту, когда она менее всего ожидала такового»
Так или иначе, но, кажется, только «отчет о саранче» заставил его написать министру иностранных дел графу Нессельроде: «...Избавьте меня от Пушкина; это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне не хотелось бы его иметь ни в Одессе, ни в Кишиневе». Губернатору помог случай: в руки полиции попало тогда письмо, в котором поэт отвергал бессмертие души и одобрял атеизм как «систему, более всего правдоподобную». Царь, когда ему донесли о письме, приказал уволить Пушкина со службы и отправить его в новую, северную ссылку, на этот раз в родовое поместье его отца, село Михайловское, и под его же негласный надзор. Пушкину было предписано покинуть Одессу 1-го августа 1824-го года. Именно с этого дня, лишившись какого-либо денежного вспомоществования, он переходит на свои хлеба, став первым в Российской империи профессиональным литератором.
Ну, вот, мы и вышли, наконец, из неприлично затянувшейся «вставки», и пока Пушкин возвращается на перекладных из Одессы в Михайловское, мы вернемся к прощальному дару его одесской возлюбленной.
Итак, это было большое литое золотое кольцо с крупным 8-угольным камнем — сердоликом красноватого или желтоватого цвета. На камне была вырезана восточная надпись. Над надписью помещены стилизованные изображения виноградных гроздей. Выгравировав на нем свои инициалы, Пушкин, со дня их последнего свидания в Одессе в августе 1824-го года и до смертного своего часа, не снимал его с руки. Печальный день расставания со страстно любимой женщиной навечно запечатлен в хрестоматийно известном «Храни меня, мой талисман»:
Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
<�…>
Как многие сыны того века, будучи до крайности суеверным, он считал этот перстень не только талисманом-оберегом, но и источником своего поэтического вдохновения, божественную природу которого он с юности явственно ощущал сам. Второй такой же перстень-близнец, но с ее инициалами, княгиня Воронцова в качестве талисмана оставила себе, запечатывая им письма, адресованные Пушкину в Михайловское.
К дарительнице сердоликового перстня обращены высочайшие образцы русской любовной лирики, написанные в Михайловском в 1824 году и в первые месяцы 1825 года: "Талисман", "Сожженное письмо", «Храни меня мой талисман», "Ненастный день потух.". Из этого же ряда - абсолютный шедевр жанра - «Желание славы», с гениальным крещендо финала:
…И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.
Даже по прошествии пяти лет, накануне женитьбы на юной и прекрасной Натали, Пушкин с грустью прощается со своей Элоизой, которая, к слову, была семью годами его старше, и красотой, даже в молодые годы, никак не могла соперничать с Гончаровой.
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Стихи Пушкина обладают неким магнетическим, нет, точнее, гипнотическим свойством. Вот и мы, едва прикоснувшись к ним, начисто забыли о перипетиях судьбы сердоликового перстня-печатки - главном герое, к слову сказать, наших заметок.
Сестра Пушкина вспоминала, что, получив письмо с печатью, на которой были такие же каббалистические знаки, что и на перстне брата, он никогда не вскрывал его на людях, а запирался в своей комнате и долго никого не впускал к себе. Он буквально испещрял поля своих рукописей профилем и силуэтом Элоиз, но письма, следуя ее повелению, по прочтении сжигал. На нашу удачу осталось пронзительное признание о тех горестных минутах, когда ему приходилось предавать их огню:
Прощай, письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет…
Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит… О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди…
В октябре 1824-го года Пушкин получил от своей одесской корреспондентки очередное письмо. По одной из гипотез Воронцова сообщила ему, что ждет ребенка. 3 апреля 1825 года графиня Воронцова родила девочку, которую назвали Софьей. Чуть повзрослев, она разительно отличалась от других членов семьи. Среди блондинистых родителей, братьев и сестер — она одна была смугловатой и темноволосой, и с иным, чем у них росчерком лица. Воронцов вполне обоснованно подозревал, что Софья не его дочь. Во всяком случае, в своем дневнике он даже не упомянул о ее рождении. Она же до конца жизни считала его родным отцом. Однако, не стоит печалиться участью обманутого мужа-рогоносца. Сам Михаил Воронцов, бесстрашный воин на поле брани, к тому же, как вы уже знаете, известный невероятными по бескорыстию поступками, мягко говоря, тоже не отличался особой супружеской верностью. У него была связь с ближайшей подругой жены Ольгой Потоцкой. В 1829 году Ольга Потоцкая, ставшая к тому времени Нарышкиной, родила дочь, и что поразительно, тоже Софью, но на сей раз точную копию губернатора Воронцова. «Ужасный век, ужасные сердца»? Развращенные несметным богатством и/или бездельем безнравственные персонажи эпохи? Да ничего подобного. Просто «времена не выбирают, в них живут и умирают» по тем законам, что предписаны веком.

Возвращаясь к перстню, раскроем загадку таинственных знаков на его сердолике.

Позируя в 1827-ом году Василию Тропинину, Пушкин, одел сердоликовый перстень на указательный палец правой руки, перевернув камнем вниз, чтобы сохранить его силу и уберечь от чужих глаз.
Таинственные письмена, вырезанные на камне, Пушкин и его возлюбленная, ошибочно принимали за цитату на арабском из Корана. Поэтическое подтверждение этого факта - строчки, написанные Пушкиным на другой год после расставания с Елизаветой Воронцовой:
В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.
Его таинственная сила
< >
Слова святые начертила
На нем безвестная рука.
Через полвека после смерти Пушкина специалисты по иудаике смогли расшифровать надпись и «узнать руку». Надпись оказалась, не на арабском, а на иврите, а по особым образом стилизованному орнаменту виноградной грозди было определено ее крымско-караимское происхождение. Надпись гласит: «Симха, сын почётного рабби Иосифа, да будет благословенна его память.» Изумившись, что и в этой истории не обошлось без евреев, пусть, и самоназванных, мы не станем, тем не менее, углубляться в столь специфические детали происхождения рокового перстня, которым Пушкин со времени Михайловской ссылки запечатывал свою корреспонденцию близким ему людям.
Прощальный дар своей возлюбленной Пушкин носил на большом пальце левой руки и перед смертью передал его Василию Жуковскому, бывшему у пушкинского одра до последней минуты. После смерти Пушкина Жуковский писал другу: «Печать моя есть так называемый талисман: надпись арабская, что значит – не знаю. Это Пушкина перстень, им воспетый и снятый мною с мертвой руки его».

Когда в 1838 году Жуковский был в Англии одновременно с Воронцовыми, Елизавета Ксаверьевна тотчас опознала свой подарок на его руке. А Жуковский записал в своем дневнике: «Сегодня племянник Воронцовой Гербер Пемброк пел Талисман (романс на стихи Пушкина «Талисман» - СТ), вывезенный сюда и на английские буквы переложенный… Он не знал, что поёт про волшебницу тетку».
От Жуковского перстень перешел к его сыну, который в 1875 году передал его Ивану Сергеевичу Тургеневу. Не подарил, а именно передал, ибо после смерти Тургенева он пытался (безрезультатно) через суд заполучить перстень обратно... Так или иначе, на Пушкинской выставке в 1880 году знаменитый перстень демонстрировался уже как собственность Тургенева с объяснительной запиской, откуда тот его получил. К тому же сохранились тургеневские письма, запечатанные пушкинским сердоликом.
А еще сохранилась запись рассказа Тургенева о пушкинском талисмане:
«У меня тоже есть подлинная драгоценность – это перстень Пушкина, подаренный ему кн. Воронцовой и вызвавший с его стороны ответ в виде великолепных строф известного всем «Талисмана». Я очень горжусь обладанием пушкинским перстнем и придаю ему так же, как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому, как высшему представителю русской современной литературы с тем, чтобы, когда настанет и его час, гр. Толстой передал бы мой перстень, по своему выбору, достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями».
Если вспомнить, что пушкинские карманные часы именно Жуковский в свое время передал Гоголю, то нет ничего удивительно, что сердоликовому перстню Пушкина могло быть предназначено стать подлинным талисманом русской словесности, как эстафета переходящим от одного ее гения к другому. Однако, эта прекрасная традиция была прервана. Тургенев лишь намеревался передать перстень Толстому.
Намеревался – Толстому, а передал, как и все свое состояние, душеприказчице, до конца жизни боготворимой им французской оперной диве Полине Виардо, которая из самых благородных побуждений нарушила волю Тургенева, передав перстень к 50-летию со дня смерти поэта в дар Пушкинскому музею Александровского лицея. Она была наслышана о многолетней ссоре двух титанов русской словесности, но как иностранке, ей не дано было понять идеи преемственной передачи перстня, как метафоры негасимого огня пушкинской поэзии. Так, едва начавшись, прервалась недлинная цепочка классиков русской литературы, наследовавших талисман Пушкина. Кольцо же, оставленное без руки гения, отомстило.
В марте 1917-го года, в смутное для России время, бесценное национальное достояние было похищено из кабинета директора лицейского музея. Газета «Русское слово» от 23 марта 1917 г. сообщила: «Сегодня в кабинете директора Пушкинского музея, помещавшегося в здании Александровского лицея, обнаружена пропажа ценных вещей, сохранившихся со времен Пушкина. Среди похищенных вещей находился золотой перстень, на камне которого была надпись на древнееврейском языке».
С тех пор след перстня был утерян навсегда. Сохранился лишь пустой сафьяновый футляр и копия записки И. С. Тургенева. Сейчас в витрине лицейского музея можно увидеть сиротливо стоящий пустой сафьяновый футляр, копию записки И. С. Тургенева и оттиск на сургуче пропавшего перстня, снятый с пушкинских писем.

Что можно вывести из этого долгого рассказа о злоключениях пушкинского перстня-талисмана, к слову, не защитившего его от той роковой пули на Черной речке? Наверное то, что результатом «плохого поведения» Пушкина во время его второй южной ссылки стало наше общее везение. Мужьям замужних женщин, с которыми у любвеобильного поэта были «отношения», конечно, не позавидуешь. Им досталось, а нам осталось. Навечно осталось гениальное стихотворчество, этими отношениями воспламененное. Не грех повторить, что нам всем до крайности свезло. И история с саранчой тоже была нам в помощь. Без нее не было бы двухлетней ссылки в Михайловское, где, помимо интимной лирики, были написаны трагедия «Борис Годунов», центральные главы романа «Евгений Онегин», поэма «Граф Нулин», окончены «Цыганы», задуманы «Маленькие трагедии», написаны «Деревня», «Пророк», «Вновь я посетил» и многое другое.
Ну, а дочитавшим до конца – бонус. Сибирские школьники исполняют «Храни меня мой талисман». Исполняют так, что «наше все», как пить дать, прослезилось бы.

 Можно ли пополнить Стим в 2025 году и как это сделать без VPN и сложностей
Можно ли пополнить Стим в 2025 году и как это сделать без VPN и сложностей  Под запретом — жертвенность.
Под запретом — жертвенность.  Верона - часть 2. Церковь Сан-Дзено (продолжение)
Верона - часть 2. Церковь Сан-Дзено (продолжение) 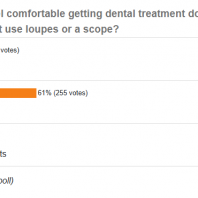 Зубы под микроскопом: мода или необходимость?
Зубы под микроскопом: мода или необходимость?  ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ О ВЕЛИКИХ
ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ О ВЕЛИКИХ  Плаваем и любуемся крепостью Святой Варвары
Плаваем и любуемся крепостью Святой Варвары  Небесное представление от 10.08.2025
Небесное представление от 10.08.2025  Новости, которые мы заслужили
Новости, которые мы заслужили  Гусеница и бабочка
Гусеница и бабочка 



