Как "национальные освободители" воевали с Россией в 19 в.
 new_rabochy — 03.04.2024
new_rabochy — 03.04.2024
Три похода полковника Лапинского против России (часть 2)
Жил да был в Галичине некий Теофил Лапинский, «польский офицер, революционер, мемуарист» по версии русскоязычной Википедии.
Другой «революционер и мемуарист», Александр Герцен, об этом галичанине однажды сказал следующее: «Лапинский был в полном слове кондотьер.
Твёрдых политических убеждений у него не было никаких.
Он мог идти с белыми и красными, с чистыми и грязными; принадлежа по рождению к галицийской шляхте, по воспитанию – к австрийской армии, он сильно тянул к Вене.
Россию и всё русское он ненавидел дико, безумно неисправимо.
Ремесло своё, вероятно, он знал, вёл долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе.»
На Кавказе Лапинский оказался потому, что ему удалось наняться начальником артиллерии в один из отрядов наёмников, которые в то время на регулярной основе британцы снаряжали для поддержания войны горцев против России.
Однако, для Лапинского это было уже не первое сражение с русскими.
Первый раз он столкнулся с ними в 1849 году в Венгрии, когда находился в отряде революционного генерала Дьёрдя Клапки в крепости Комаром.
Русский отряд в количестве около 5 тысяч бойцов подступили к крепости, и поэтому Клапка вместе со своим 18 тысячным гарнизоном решил капитулировать, что очень не понравилось группе его офицеров, одним из которых как раз и был Лапинский.
Офицеры решили Клапку арестовать.
Однако, вместо этого они сами оказались арестованы помощником Клапки, военным полицейским Яношем Бандьей. Впрочем, по итогу ни один из заговорщиков не пострадал.
Что характерно, новым начальником Лапинского оказался тот самый Янош Бандья, который за восемь лет до того арестовал галичанина в венгерской крепости Комаром.
Второй раз Лапинский схлестнулся с русскими во время Крымской войны 1853-1856 годов, когда служил уже в турецкой армии.
И вот после окончания войны, в 1857 году, Лапинский на британском корабле отправляется, как уже говорилось выше, на Кавказ — разжигать, так сказать, «пламя народного восстания» среди горских племён.
На Кавказе Лапинский, если верить его мемуарам, совершал многочисленные доблестные подвиги, а своего непосредственного противника — русских — держал в постоянном страхе. Однако же, если фамилия Лапинского и действительно встречалась в боевых сводках русского Кавказского корпуса, то почему-то в основном в сочетании со словом «бежал».
Что же касается Лапинского, то одновременно с тем, как сотни тысяч черкесов в результате регулярных командировок «сволочи разных наций» в конце-концов вынуждены были покинуть свои родные места и переселиться за моря́, в Гамбурге была издана (хвалимая Герценом) его книга «Горцы Кавказа в их борьбе с русскими за свободу» (Lapinski Th., Die bergvölker des Kaukasus und ihr freiheitskampf gegen die Russen. Hamburg, 1863). Второй том «Горцев…» имел следующее предисловие от издателей:
Доблестный автор этой книги, который в 1849 г. в Венгрии и позже в горных теснинах Кавказа противостоял вечному врагу своей отчизны, сегодня снова поднял меч за дело свободы и независимости и, как прежде на чужбине, так ныне на родине, соединился со своими братьями, чтобы побороть варваров Востока.
И это был уже третий по счёту поход Лапинского против России.
Воспоминания Лапинского об этой операции «Powstancy na morzu w wyprawie na Litwe» были опубликованы в львовской «Газете Народовой» в 1878 году, №№ 180-227, и тогда же и там же вышли ещё и отдельной книгой.
На русском языке пересказ части этих записок был опубликован в статье Н. Берга «Морская экспедиция повстанцев» в журнале «Исторический вестник», т. IV, 1881 год. Также своё собственное описание экспедиции дал упомянутый Герцен в «Былом и думах» (гл. XIII «М. Бакунин и польское дело», гл. XIV «Пароход "Ward Jackson"»). В общем, источников по этой экспедиции более, чем достаточно.
Кстати сказать, на свою новую командировку полковник согласился далеко не сразу. Когда в Лондоне ему предложили возглавить морской десант на российское побережье в районе нынешней Паланги, Лапинского насторожил тот факт, что предыдущий кандидат сначала согласился, а потом отказался от участия в операции.
Кроме того, Лапинскому постоянно «мерещились виденные им на Кавказе и в Венгрии битвы иррегулярных полчищь с правильно-организованными войсками, где 10000 бежит от 500…».
Да к тому же ещё полковника не устраивали собственные финансовые полномочия по экспедиции.
Чтобы развеять сомнения Лапинского, в первой половине марта 1863 года его пригласили на лондонскую квартиру Герцена, где собрались несколько революционных тузов, бывших тогда в Лондоне: Маццини, Ледрю-Роллен, Маркс… Из поляков, сверх Лапинского, был только Цверцякевич; из русских Огарёв.
И все эти весьма известные люди активно уговаривали Лапинского срочно атаковать Россию, высадившись во главе вооружённого десанта на её балтийском побережье.
В конце-концов, после принятия комитетом уговорщиков всех условий полковника, Лапинский (заодно немедленно получивший повышение до генерала) согласился командовать отрядом, состоявшего из офицеров поляков 9, иностранцев 5; рядовых поляков 86, иностранцев 54 — из них французов было 22, итальянцев 16, англичан 3, немцев 3, швейцарцев 2, русских 2, бельгийцев 2, венгров 2, голландец 1 и хорват 1; всего 154 человека.
Причём «кроме нескольких французов, прибывших из Парижа, всё остальное в иностранном отделе было набрано на улицах Лондона».
Из этой гоп-компании Лапинский самолично забраковал 11 человек; кроме того, пятеро позже передумали, и сбежали от Лапинского ещё в Лондоне.
Тогда же у Лапинского появился адъютант Стефан Поллес — как оказалось в дальнейшем, агент российской разведки. Кстати, позже сотрудник Заграничной агентуры Поллес (Тугендбольд) издал свои воспоминания об этом деле отдельной брошюрой: «Польская экспедиция и Стефан Поллес».
25 марта 1863 года гоп-десантники Лапинского отплыли из Лондона на зафрахтованном пароходе «Уард Джексон» (SS Ward Jackson/Herman/May Queen (1854-1874) — 528 т., 54,5 х 7,4 м., 90 л.с.) по направлению к балтийским берегам России.
В шведском Хельсингборге к десанту должен был присоединиться Бакунин, предварительной задачей которого было получение информации о расположении русских войск в районе планируемого места высадки десанта — Паланги.
Бакунин опаздывал, зато капитан «Уарда Джексона» внезапно вообще отказался идти к литовскому побережью, так как ему кто-то рассказал о двух русских фрегатах, курсирующих там.
Решили пока перейти в Копенгаген, где и разузнать подробности о фрегатах.
По прибытию информация была подтверждена как датчанами, так и британским морским атташе. В оригинале это звучало так:
«Справились в датском и английском адмиралтействах: там сказали то же самое.»
Отсюда можно сделать вывод, что в Западной Европе тех времён различные военные ведомства запросто консультировали по любым военным вопросам любых гражданских, проплывающих мимо вооружённой толпой в сторону России.
Из Копенгагена Лапинский решил идти к шведскому острову Эланд, а уже оттуда на лодках контрабандистов переправиться в Палангу; однако в этот самый момент английский капитан вообще сбежал с корабля (вместе с адъютантом Стефаном Поллесом).
Пришлось на место беглеца нанять датчанина, и перейти ещё ближе к пункту назначения — в шведский Мальмё.
Тамошнее городское население десантников встретило восторженно. Однако, сам Лапинский всё больше и больше сомневался в успехе экспедиции, и даже отослал своим работодателям письмо с предложением перенаправить «Уард Джексон» вместо Литвы на знакомый ему Кавказ (что характерно, этот план «Бакунин одобрил без всяких возражений»).
А тут ещё, как назло, очередной русский фрегат навестил Мальмё…
Время шло; деньги, выданные на экспедицию, заканчивались — а «Уард Джексон» как будто прикипел к шведскому берегу. Работодатель требовал идти не на Кавказ, а именно в Литву «хоть с десятью охотниками». Бакунин вообще уехал в Стокгольм, откуда писал Лапинскому, что «лучше всего отряду интернироваться на шведской земле, но никак не расходиться, потому что носятся слухи об европейской интервенции.»
Напомним, что в это время в Польше происходило Январское восстание 1863 года. И очевидно, что тактика обещаний «всемерной поддержки со стороны международного сообщества» безупречно работала как среди кавказских горцев, так и среди польского панства.
Наконец спустя месяц шведское правительство от отчаяния предложило Лапинскому денежную помощь в размере 20 000 талеров, лишь бы тот поскорее покинул Мальмё!
Лапинский деньги взял, но в море, что характерно, всё равно не вышел.
Тогда шведские таможенники сами высадились на «Уард Джексон», и забрали всё оружие экспедиции, кроме личного. Кстати сказать, итальянцы из отряда Лапинского к тому времени уже успели продать партию револьверов гостеприимным мальмёнцам.
Лапинскому ничего не оставалось делать, как подчиниться убедительным намёкам шведских властей, и вечером 3 июня, спустя 70 дней (!) после отбытия из Лондона, «Уард Джексон» наконец-то покинул ставший уже таким родным порт Мальмё.
Чтобы обмануть русские крейсера, был запущен слух о том, что пароход с наёмниками возвращается обратно в Лондон.
Однако возле острова Вен недалеко от уже знакомого Хельсингборга «Уарда Джексона» поджидала небольшая шхуна «Эмилия», на которую в полном составе перегрузился отряд Лапинского (кстати сказать, после Швеции «похудевший» ещё на 36 человек), и направился в обратный путь к литовскому побережью.
В полдень 11 июня 1863 года «Эмилия» бросила якорь у Куршской косы, в десяти милях к югу от Мемеля (Клайпеды), в территориальных водах Королевства Пруссия.
План Лапинского был таков: высадиться на Куршской косе, взять у рыбаков лодки, переправиться в узком месте через лагуну, захватить на противоположном берегу селение (тоже прусское, кстати), реквизировать там лошадей и подводы, погрузиться на них, и следовать к границе России.
С прусскими пограничниками в бой не вступать, на границе возчиков из местных вознаградить и отпустить — а дальше будь, что будет.
Ночью со шхуны спустили две шлюпки с десантниками.
По пути к берегу бо́льшая из них перевернулась, и 24 человека утонуло. Остальные в панике вернулись на «Эмилию», на ней же добрались до шведского острова Готланд, откуда остатки десанта генерала Лапинского на шведском военном корабле 19 июня 1863 года были отправлены обратно в Лондон.
После этой операции Теофила Лапинского к серьёзной революционной работе больше не привлекали. Одно время он ещё поработал журналистом в Швейцарии, после чего вернулся в Галичину, где и стал писать свои мемуары.
P.S. Из письма Карла Маркса к Фридриху Энгельсу от 9 декабря 1863 года:
«Самый интересный человек, с которым я здесь познакомился, — полковник Лапинский. Это безусловно самый остроумный поляк, — и притом человек действия, — из всех, кого мне до сих пор довелось узнать.»
|
|
</> |

 Важное значение образования для развития инклюзивного спорта
Важное значение образования для развития инклюзивного спорта  Химтрейлов псто
Химтрейлов псто  В Госдуме предложили...В угаре запретительства или в погоне за рейтингом
В Госдуме предложили...В угаре запретительства или в погоне за рейтингом 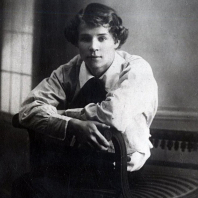 Известный русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики — Сергей
Известный русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики — Сергей  Субботнее фото для души
Субботнее фото для души  Лыжник и футболист
Лыжник и футболист  Театр Vertumn. Бродский
Театр Vertumn. Бродский  Во Серебряном бору... Часть вторая
Во Серебряном бору... Часть вторая 



