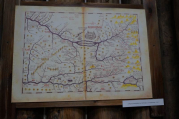Как говорить о мертвых?
 diak_kuraev1 — 27.09.2025
diak_kuraev1 — 27.09.2025
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КУРАЕВА АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
Да, я не согласен с афоризмом «о мертвых не говорить плохого».
Древнегреческий мудрец Хилон (автор этой фразы) писал: τὸν τεθνηκóτα μὴ κακολογεῖν. Глагол κακολογεῖν (буквально — злословить) обычно имеет множество значений: бранить, хулить, клеветать.
Возможно, Хилон имел в виду именно «На мертвых не клевещи». Мол, живой сам привлечет тебя к ответу за клевету, а мертвый… Тут атеист сказал бы, что на мертвого нельзя клеветать, так как он беззащитен и уже не может ответить. Но Хилон не атеист. В его мире клевета на мертвого страшна тем, что за него будут мстить боги, что много страшнее любого человеческого наказания.
Это мистически небезопасно: духи могут отомстить и из загробного мира. Как писал знаток античных религий Ф. Зелинский: «в представлении об оставившей тело душе совмещаются два друг другу прямо противоположные: она и блаженный дух, охраняющий своих близких, но она же и страшное привидение, от которого спасаются заклятиями и чарами. Само собою разумеется, что и душа вообще благодетельная будет карать своих оскорбителей; упырь».
Латинский перевод фразы Хилона звучит — Mortuo non maledicendum. Не проклинай мертвецов.
Но клевета, проклятие и высказывание своего мнения (пусть и негативного) вовсе не одно и то же.
Со времен князя Владимира Федоровича Одоевского формула Хилона дополняется «…ничего, кроме правды».
«Нас губит равнодушие к мошенничеству и отсюда происходящая неистовая злоба к гласности. <�…> Нам так часто повторяют, и сами мы повторяем: De mortuis aut bene, aut nihil, что совестно спросить: да есть ли смысл в этой фразе? — Никто из нас, кажется, и не подумал, что если бы эта фраза была справедлива, то вся история должна бы состоять из панегириков. Может быть, это присловье ввелось и потому, что мертвый защищаться не может. Но неужели суд и драка одно и то же? Робеспьер и Меттерних, граф Иосиф де Местр и Марат, говорят, были прекрасные и преприятные в домашнем кругу люди; но неужели из того следует, что оставленные ими на земле дела и разрушительные начала должны оставаться святыми и неприкосновенными, потому что эти господа были прелюбезные люди и к тому же умерли? Неужели можно выхвалять или молчать относительно зла, сделанного напр. в русской литературе Булгариными и Сенковскими или напр. Аракчеевыми для целой России? — Знаменитое присловье надобно переделать так: De mortuis seu veritas, seu nihil. Это так. Ложь или даже подозрение против живого неопасны — он сам огрызается; ложь, неопределенное подозрение против мертвого позорны. Но правда и против мертвого, и против живого — дело святое» (Из бумаг князя В. Ф. Одоевского // Русский архив. 1873 год).
Бывало, что и святые, получив известие о смерти некоторых и даже святых людей, тут же отзывались о них нелицеприятно:
«Блаженный Феодорит Кирский. Письмо 180. Домну, епископу Антиохийскому, писанное после того, как умер Кирилл, епископ Александрийский.
Наконец, хотя и поздно, умер злой человек. Его, несчастного (Кирилла Александрийского), Правитель душ наших не оставил, подобно другим, далее наслаждаться тем, что кажется увеселительным, но, зная злобу этого мужа, ежедневно возраставшую и вредившую телу Церкви, отторг, словно некую язву, и отъял поношение от сынов Израиля. Отшествие его обрадовало оставшихся в живых, но опечалило, может быть, умерших; и можно опасаться, чтобы они, слишком отягченные его сообществом, опять не отослали его к нам или чтобы он не убежал от тех, которые отводят его (в подземный мир), как тиран циника Лукиана. Итак, надо позаботиться (и твоей святости нужно особенно предпринять эту поспешность) приказать обществу носильщиков умерших положить какой-нибудь величайший и тяжелейший камень на гробницу, чтобы он (Кирилл) опять сюда не пришел и снова не стал доказывать нетвердые мнения. Пусть он возвещает новые догматы находящимся в аду и пусть там разглагольствует днем и ночью, как хочет. Поэтому я плачу и рыдаю о несчастном, ибо весть о его смерти доставила мне не чистое удовольствие, а смешанное с печалью. Я радуюсь и услаждаюсь, видя общество церковное освобожденным от такого рода заразы, но печалюсь и рыдаю, помышляя, что он, жалкий, не успокоился от зол, но умер, покушаясь на большие и худшие. Но Бог наложил узду на его уста и удила на его губы. Да будет же, по молитвам твоей святости, чтобы он снискал милосердие и прощение и чтобы безмерная милость Божия победила его злобу». http://azbyka.ru/otechnik/pravila/dejanija-vselenskikh-soborov-tom5/1_5
Да и в Деяниях мы читаем историю про то, как апостол весьма некомплементарно поступил со вдовой только что умершего Анании: «Но Петр сказал ей: вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут»[1].
И что было бы, если бы эта история произошла сегодня и о ней недоброжелатели Петра донесли бы патриарху Кириллу? Последовал бы Указ.
«Указ № У-Баранкигну от 29 апреля 2020 года
Апостолу Петру (Кифе)
Апостол Петр Симон Ионович, штатный Апостол и Архиерей Вечного града Рима, в связи с публичным оскорблением памяти скончавшегося прихожанина иерусалимской общины гр-на Анании в день его кончины, невзирая на глубокую скорбь его жены, детей и прочих многочисленных прихожан, что свидетельствует о глубочайшем духовно-нравственном упадке Апостола Петра и потере чувства сострадания и христианского отношения к ближним и характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особо циничное, вызвавшее возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя (сон в Гефсиманском саду, отречение во дворе дома Первосвященника Каиафы, нанесение тяжких телесных повреждений Малху — рабу Первосвященника, публичное маловерие в водах Галилейского моря, неверное истолкование литургического смысла происходящего на горе Фавор и проч.), запрещается в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом г. Москвы по рассмотрении упомянутых деяний.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ».
Из этого следует, что не может быть в христианстве нормы, требующей о покойном говорить лишь комплименты — даже в присутствии вдовы и даже в день кончины ее мужа.
Не видно скорби и неосуждения и в тех словах, которыми ангел известил Иосифа Обручника о смерти царя Ирода (Мф. 2,20).
Многие православные люди сочли недопустимыми слова митрополита Смоленского Кирилла в программе «Слово пастыря», вышедшей 6 декабря 2008 года, на следующий день после смерти патриарха Алексия Второго: «Бывает так, что иногда Господь некоторое время дает Церкви некоторые испытания, когда во главе ее стоит человек престарелый и практически уже неспособный к управлению. Это очень трудное время для Церкви. Святейший Патриарх ушел, оградив нашу Церковь от этого трудного времени».
И тогда, и сейчас я считаю, что митрополит Кирилл сказал и точно, и уместно[2].
Запрет на критику умерших повлек бы за собой сожжение всех книг по истории. Ведь история даже Церкви не может быть лишь бесконечным восхвалением.
«Духовный луг» (он же «Лимонарь», он же «Синайский патерик») говорит, что у некоего старца «было десять учеников. Один из них был очень нерадив. Старец не раз уговаривал и молил его: “Брат, подумай о своей душе. Придет смерть и вместе с нею — кара”. Но брат никогда не слушал старца и не принимал к сердцу его слов. Спустя немного времени этот брат скончался. Много печалился о нем старец и начал молиться: “Господи Иисусе Христе, истинный Бог наш, покажи мне, что сталось с душою брата”. И вот как бы в забытьи он видит огненную реку. В огне — великое множество осужденных, и среди них — брат, погруженный по шею. “Не ради ли этой муки я молил тебя, чадо, чтобы ты позаботился о своей душе?” — “Благодарю Бога, отец мой, что хотя моя голова свободна от мучений. По молитвам твоим я стою над головою епископа”» (гл. 44).
Ну надо же — епископа, покойного, поместить аж в глубину ада! Не запретить ли эту антицерковную писанину?
Кроме того, где, в каком церковном, светском или журналистском кодексе указаны какие-то временные сроки — на какой день после кончины уже можно? В день, когда скончался римский папа Иоанн-Павел Второй, я смотрел европейские телеканалы. И там была волна критики: он — такой-сякой консерватор, не одобрял гомосексуальные браки, был против абортов и т.д.
Прямо в день смерти социолога Игоря Кона в апреле 2011 года протоиерей Дмитрий Смирнов заявил: «И вот сегодня, в этот пасхальный день, Господь освободил нас от того, чтобы быть согражданами этого человека. Поэтому, несмотря на то, что „прогрессивное“ человечество и скорбит, но я думаю, все религиозные люди в нашей стране (и христиане, и мусульмане, и иудеи), восприняли эту весть с чувством глубокого удовлетворения»[3].
Далее в его мультиблоге появились такие комментарии православных:
«— Батюшка блестяще использовал кончину того персонажа для благого дела — отмены этого шествия содомитов.
— О. Димитрий просто озвучил надгробную речь, подходящую к данному, конкретному случаю. Другие слова были бы просто неправдой.
— А почему, действительно, не быть удовлетворенным от того, что одной гнойной смердящей язвой на теле России стало меньше?
— Слава Богу, стало одним из таких людей меньше.
— Надо же — умер на Пасху. Неужели гей-парад в Москве все-таки состоится?
— Милый, дорогой отец Димитрий! Спасибо Вам за все, за то, что Вы никогда не молчите, видя несправедливость и беззаконие. Вы очень сильно нам нужны, спасибо Господу за то, что даровал нам такого пастыря».
…Читаю и поражаюсь… А мне говорили, что все умершие на Пасху попадают в рай. А еще мне говорили, что если кто что непохвальное про умершего скажет, то лишится человеческого облика и христианского имени (ну, и сана заодно).
О, милые двойные стандарты у сообщества, мнящего себя единственно-христианским...
А если открыть телеграм-канал Маргариты Симоньян, главного редактора государственного медиахолдинга «Россия сегодня», за 5 августа 2020 года, там можно прочитать новость и комментарий: «Муэдзин Святой Софии умер от сердечного приступа прямо в соборе. Пора вводить рубрику “Увлекательная ирония Высшего Разума”»[4].
Так что «правило Хилона» применяется всегда очень партийно: «наших не тронь»[5].
[1] «Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это» (Деян.5).
[2] «Чтобы человеком, который по летам выживает из ума, не было подвергнуто опасности общее дело» (свящ. Анатолий Жураковский. Материалы к житию. Париж, 1984. С. 185). Ср.: «Мы говорили, что не следует избирать Патриархом молодого человека. Обстановка во всем мире, а в Советском Союзе особенно, постоянно меняется и будет меняться. Долгий период патриаршества одного человека — риск для Церкви» (митрополит Антоний Сурожский. Говорят участники Поместного собора // ЖМП. 1990. № 10. С. 14).
[3] http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/cerkov-5279/
[4] https://twitter.com/m_simonyan/status/1291022931364020224 Кстати, в исходном турецком сообщении не говорится о том, что Осман Аслан был именно муэдзином. Он был волонтером, который уговаривал людей надевать маски от ковида. «Наш учитель Осман Аслан, скончавшийся из-за сердечного приступа в мечети Святой Софии-и-Кебыр, где он служил проводником-волонтером, был отправлен в последний путь. С первого дня, когда мечеть Айя-София-и-Кебир Шариф вновь открывается муфтием Стамбула, персонал назначается для добровольного сопровождения посетителей и обеспечения соблюдения мер по Covid-19 в мечети». (https://istanbul.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&ContentId=1719&fbclid=IwAR2ujT0UtWNy1htA14O-2pB5qnvLA6d4CXRuy9aR9AAJBw6XPCUVBC6lA-I).
Ее же позднейшее:

[5] «Вот вам, господа, три фамилии. Мне до сих пор непонятно дружное злорадство православных при тех трех смертях — но даже более-менее вменяемые православные хотя бы в одном из трех злорадств да засветились. Логика не ясна до сих пор, склонен списывать на массовое беснование — но факт остается фактом. И выражения там были не чета кураевской характеристике Агейкина — а все исключительно “мразь”, “гнида”, “хорошо, что сдох” и подобные. Итак, попробуйте вспомнить, что Вы делали, когда умерли: Ян Арлазоров, сексолог Игорь Кон, академик Виталий Гинзбург...» (Александр Сорокин).
***
Это из моей книги «Парадоксы церковного права»
|
|
</> |


 Рублевые вклады с повышенной ставкой: как новым клиентам получить максимальный доход
Рублевые вклады с повышенной ставкой: как новым клиентам получить максимальный доход  ПРОВАЛ.
ПРОВАЛ.  45 лет альбому Рори Галлах**а "Stage Struck"
45 лет альбому Рори Галлах**а "Stage Struck"  Новости
Новости  Что у нас к этому часу...
Что у нас к этому часу...  Завтра пятница!
Завтра пятница!  Они пришли за своим... Не более того... И не нужно тут
Они пришли за своим... Не более того... И не нужно тут  Россия дореволюционная
Россия дореволюционная  Субботняя прогулка для души
Субботняя прогулка для души