Живем вместе. Ч. 49
 tatiana_gubina — 03.07.2015
Часть 48 здесь
tatiana_gubina — 03.07.2015
Часть 48 здесьВсе шло не так. Не так, как я ожидала. Не так, как должно было быть. Вроде закончился период адаптации. Детка в целом «вписалась» в семью, у нас установились отношения. Нельзя сказать, что очень теплые и доверительные, но установились же! Она меня называет мамой, я ее — дочкой, Младшая для нее — сестра. Мой муж пока что - «дядя», но это неплохо, учитывая, что «папой» она до сих пор называла своего предыдущего приемного папу. Детка многому научилась, освоила бытовые навыки, привыкла к новой повседневности. Не говоря уже об успехах в школе. Теперь должна была начаться должгожданная «обычная» жизнь. Но она почему-то не начиналась.
Весь прошлый год я думала — да, мне трудно, всем нам трудно, но я же знаю, ради чего эти трудности. Еще немножко, еще чуть-чуть потерпеть, еще один рывок, и все пойдет на лад. Под «ладом» я, сама того не сознавая, понимала своего рода «восстановление» той жизни, которую мы вели раньше, до прихода детки. Как будто в ровную, тихую гладь нашей семейной «заводи» бросили камень, и камень этот поднял волну, взбаламутил ил и песок, и нужно просто подождать, пока волна уляжется, вода снова станет прозрачной, и наш «камушек» займет свое уютное местечко в общем жизненном порядке.
Теперь я смотрела на детку, на нашу общую жизнь, и понимала, что эта метафора совсем не подходит к тому, что у нас происходит. У меня стало появляться подозрение, что этой «тихой заводи» не будет больше никогда. И эти мысли меня пугали. Я от них отмахивалась, и пыталась убедить себя в том, что это неправда, и все, конечно же, вернется – надо только еще немножко постараться. Но все больше, все чаще откуда-то просачивалось убеждение — наша жизнь изменилась навсегда. Какая она теперь будет — я не знаю. Но точно не такая как раньше.
Девочка сама по себе вызывала у меня очень неоднозначные чувства. В прошлом году мне казалось, что все ясно. Мне достался ребенок, во многом пострадавший, ужасно воспитанный, за годы своей не самой счастливой жизни набравшийся дурных привычек, ложных ценностей и неприятных манер. Нужно этого ребенка, фигурально выражаясь, «отмыть», отучить от заведомо плохого, показать хорошее, ну и «выдать» все то, что полагается иметь ребенку в нормальной, благополучной семье — внимание и ласку, поцелуи и разговоры, вкусное и интересное вперемешку с правильным и обязательным.
Именно этим я и занималась весь прошлый год. Не сомневаясь в том, что «на выходе» получится та самая «принцесса». Девочка из хорошей семьи. Моя «третья дочка», еще один близкий и адекватный мне человек. Не то чтобы я специально об этом думала. Но, наверное, подобное убеждение жило где-то в глубине моей души. И теперь я понимала, что ничего подобного не произошло. Да, девочка изменилась. Да, какие-то «ужасные» вещи ушли, и много хорошего она восприняла, впитала, освоила. Но она была никакая не «принцесса». И я не чувствовала ее «дочкой». И вообще все было не так. Она была - «другая». И она мне не нравилась.
Мое «не нравилась» делилось на две «части». Одна часть была связана с реально неприемлемыми вещами — враньем, подтаскиванием чужого, невыполнением обещанного. Тут я вздыхала, сетовала на то, что силы кончаются, но в целом мои эмоции укладывались в формулу «через тернии к звездам». Придется еще напрячься, что ж поделаешь.
Вторая же «часть» моего неприязненного отношения к некоторым деткиным проявлениям была сложнее. Я понимала, что то, что мне не нравится — это просто мое личное «не нравится». Ну не нравятся мне грубые манеры, вульгарные шутки и глупое хихиканье в неподходящих ситуациях. Не нравится мне, как детка напяливает на себя вещи одну на другую, без вкуса и без смысла, и вещи эти вытащены не из комода, а из-под кровати, где лежали несвежей мятой кучей. Не нравится ее самодовольство, и похвальба, и страсть, с которой она говорит о промахах и ошибках других людей. Да мало ли что мне не нравится! Полмира живет, мыслит и проявляется так, как мне не нравится — и что? Я же не могу ждать, что кто-то станет жить по-другому просто потому, что я так хочу! Я и требовать ничего подобного не могу, даже от детки — стань такой, как я, изменись по моему вкусу. Она имеет право быть такой, как есть.
А если бы даже я взялась ее «исправлять» — я бы не смогла, у меня вряд ли бы получилось. Пресечь можно хамство, да и то не всегда, но как остановишь самодовольство? Можно наказать за обман, за плохой поступок, но как провести грань, отделяющую здоровую гордость за свои достижения от превозношения самого себя? Как объяснить, чем критичное отношение к чужим поступкам, касающимся тебя лично, отличается от презрительного осуждения «тех, которые так себя ведут»? Время от времени я пыталась что-то объяснять, и заводила разговоры, но сталкивалась со стеной непонимания, и ответной обиды — опять меня в чем-то обвиняют!
Умом я все это понимала - мне что-то не нравится, но изменить я это не могу, значит, надо принять все как есть. Что делать с чувствами, было непонятно. Она была ребенком. Моим ребенком. Когда дело касается взрослых людей, все гораздо проще. Если какие-то люди тебе не нравятся, с ними просто не общаешься. Бывает, конечно, что ты вынужден общаться с кем-то несимпатичным — на работе, или соседи неудачные попались, да мало ли. Это не очень приятно, но в любом случае, неприятное общение можно сократить до минимума. И уж, конечно, с неприятным коллегой не нужно обниматься, интересоваться как прошел день, и покупать ему разные мелочи, которые еще надо бы выбрать — любовно и внимательно.
О чужих неприятных взрослых не надо заботиться. О собственном приемном ребенке, который вдруг оказывается в чем-то неприятен, заботиться необходимо. И продолжать общаться. И оставаться при этом ласковой и внимательной. Я ощущала эту ситуацию как не очень большой, но тупичок. И где тут выход, я не знала.
Я думала об этом часто. Крутила эти мысли так и сяк. В моей жизни раньше складывались ситуации, когда я была вынуждена тесно общаться, или даже жить бок о бок с людьми, не вызывавшими у меня особых симпатий. С кое-кем из родственников, например. Я вспоминала, обдумывала — ну там ведь тоже, вроде, и чувства негативные были, и забота какая-то требовалась. И все же — получалось, что те, «взрослые», ситуации, были морально легче. Во-первых, всегда можно было установить хоть какие-то рамки, и даже если требовалась физическая забота, то никто не настаивал, чтобы она была душевной и сердечной.
Во-вторых, негативными чувствами, которые испытываешь ко взрослому человеку, всегда можно хоть с кем-то, да поделиться — тебя выслушают, тебя поймут, да еще и от себя добавят. Говорить о том, что тебе не нравится твой собственный ребенок, пусть и приемный — ну, как бы это сказать… То есть, конечно, если он плохо себя ведет, то да… А просто так… «Просто так» - это было чувство, которого сам перед собой стыдишься, не то что идти и кому-то об этом рассказывать. Да и поймет ли кто-то? Ну да, ребенок другой, не такой как ты. Бывают белочки, бывают зайчики. Просто нужно вот так к этому отнестись. Вот кошка же может выкормить бельчонка. И даже будет гордиться тем, какой у него роскошный пушистый хвост. Надо гордиться тем, что есть, а не переживать из-за того, чего нету. Ну а то, что девочка хамовата, хвастовата и запихивает колбасу в рот кусками, когда ей кажется, что ее никто не видит — ну что ж… Как-то, наверное, мне самой нужно к этому изменить отношение…
Пока что отношение меняться не хотело. И чувство, которое я испытывала, можно было назвать словом «разочарование». Детка же в результате всех этих многомесячных усилий должна была стать «как мы»! И влиться в нашу семью так, как будто она тут и жила всегда! Разве не в этом смысл «адаптации», не к этому ведут все эти ужасные трудности и тяжелые сцены? И я же сама слышала от других приемных родителей, что через некоторое время ребенок становится как родной. Почему же у меня — не как родной, более того — совсем не такой, как хотелось бы! И я ничего, ну совсем ничегошеньки не могу с этим поделать…
Чувство разочарования сменялось чувством вины, на все накладывалась усталость, и начинало мелькать непонимание — а я вообще зачем все это делаю? Отчего-то цели, которые раньше были просты и понятны, вдруг стали расплываться и ускользать. Помочь ребенку, даже — «спасти» ребенка… Ну спасла вроде… дальше-то что… А, вот еще было что-то такое – изменить мир к лучшему, изменить чью-то судьбу… Да о чем вы говорите! Пока что я, похоже, изменила только свою собственную судьбу… причем не в лучшую сторону… И судьбу своих рожденных детей… Я понимала, что эти мыслу нужно гнать — беспощадно. Они были как яд. Все теряло смысл, и наползало бессилие...
Мне оставалось заниматься тем, что можно и нужно было «улучшать-исправлять-переделывать». Продолжать детку воспитывать, сеять разумное-доброе-вечное… Кое-что за последний год изменилось к лучшему. Многое по-прежнему меня не радовало. А что-то, как мне казалось, стало не то чтобы хуже, но проявилось с какой-то новой и неожиданной для меня стороны. Детка постоянно врала. По любым поводам, и без повода — тоже. В прошлом году мне казалось, что она врет так, как это делает, в сущности, любой ребенок — набедокурил, испугался, тебя призывапют к ответу, ты врешь. Это, пожалуй, можно было счесть самым безобидным, и в каком-то смысле «естественным» видом вранья. Врала она и в других ситуациях, много и разнообразно, но... не было в ее поведении той оголтелой наглости, которая появилась сейчас.
Само вранье расцвело пышным цветом. Я обнаружила, что на любой вопрос она отвечает заведомую неправду. Сколько было уроков. Какой дорогой шла в школу. Что ела на обед. С кем говорила по телефону. Отчего она врет «на ровном месте», я не понимала. Вопросы задавались отчасти для каких-то текущих, не очень важных информационных надобностей, отчасти из любопытства. То, что ответ не соответствует истине, выяснялось либо тут же на месте, либо позже и случайно. С моей стороны следовало недоумение, с деткиной — ворох обиды, и гнева, и многословных, напористых оправданий, больше похожих на обвинения, и ситуация почти неизбежно превращалась в то самое месиво, из которого я выползала без сил, и утеряв всякий смысл. Что это было? Зачем это было? Что мы такое ценное сейчас с криками выясняли целый час — а час пролетал незаметно и неумолимо...
Врала она и с очевидными практическими целями – в прошлом году такого не было. В прошлом году она сама боялась своего вранья, или хотя бы - последствий. В этом году она бояться перестала. Пожалуй, она даже кичилась всем этим - ну да, она соврала. А что такого? Конфронтация переходила в откровенное хамство.
Она пожимала плечами, и зло усмехалась. Эта злая усмешка тоже была новой. Она не боялась наказаний — а что ей могли «такого» сделать? Я пробовала ее чего-то лишать — она отдавала все безропотно, с той же усмешечкой, пожимая плечами, и я понимала, что для нее это действительно так — она не дорожит ничем. Просить она ни о чем не просила, и как будто по-прежнему ничего не хотела, поэтому у меня не было возможности сказать — если ты этого хочешь, то выполни свое обещание, ну или что говорят в подобных случаях, когда добиваются от ребенка определенных действий.
Тут тоже был «момент». Я ждала — ну проявятся же у нее хоть какие-то желания, рано или поздно! Ну попросит она чего-то, захочет, станет для нее что-то важным! Это же хорошо, когда человек чего-то хочет, к чему-то стремится. Но получалось, что жду я этого неспроста — я хочу «поймать» ее на этот «крючок», я ищу способ, как девочкой управлять. Если ты хочешь того, сделай сначала это! И я поняла, что — не смогу. Если она придет ко мне с каким-то своим «хочу», я не смогу тут же «накрутить эту нитку на палец», и занести «хлыст» у нее над головой. Похоже, что «рычаги управления» мне не светили даже в будущем...
Детка не боялась скандалов — в них она чувствовала себя гораздо увереннее и «крепче», чем я. Кроме того, я заметила, что у нее нет «эмоциональных хвостов», и из конфликтов она выходит как будто без малейших потерь. Если мы с ней ссорились, я потом подолгу переживала, сожалела о том, что не все сказала и не убедила детку ни в чем, одновременно испытывала чувство вины, что давила на нее, и кричала, и проявлялась не самым лучшим образом. Каждый раз мне нужно было специально что-то делать, чтобы прийти в себя — покурить, или переключиться на что-то, как-то сбросить этот эмоциональный груз. Детка же могла начать хихикать сразу, как только разговор прекращался. А иногда даже в процессе.
Сколько раз я взрывалась оттого, что, пока я, старательно подбирая слова и пытаясь быть спокойной и убедительной, объясняла ей что-то важное, детка вдруг начинала хихикать, глядя куда-то вбок, и на мой недоуменный вопрос — что такого смешного я говорю, отвечала — ну кошка же вот так смешно почесалась! Ну да, она следила за кошкой, и нисколько — за моими словами, которые были ей не важны и не нужны, и это маленькое «обесценивание» иногда доводило меня до исступления.
Я думала о том, что в прошлом году у меня был хоть какой-то «рычаг» воздействия на нашу девочку. Она побаивалась, она старалась не зайти за определенные границы. Как бы она ни выделывалась, у меня сохранялась уверенность, что я ее так или иначе «передавлю» - где то на терпении, где- то на этом ее боязливом нежелании идти на открытый, «военный» конфликт. Теперь же все стало по-другому. И я понимала, что в прошлом-то году было, оказывается, все не так плохо. Ну прямо как в анекдоте, когда человек думал, что это была черная полоса, а оказалось, что просто грязно-белая.
Впрочем, кое в чем я тоже «крепчала». Я научилась не реагировать на некоторые деткины проявления, которые раньше меня сильно «доставали» и тоже рано или поздно выводили из себя. Касалось это по большей части вещей, которые я просила ее не делать. Не стучать кулаком в стену. Не бормотать громко себе под нос, сопровождая этим бормотанием любое свое занятие. Не швырять учебники так, что стол отъезжает в сторону. Не класть еду прямо на скатерть. Не кидать пенал на середину гостиной, так что ручки и карандаши разлетались по комнате – если что-то в задаче оказалось непонятным. Таких вещей было немало, и в прошлом году мне казалось, что детка сама старается как-то с этими своими проявлениями справляться. Иногда она спохватывалась, иногда огорчалась, что в очередной раз так вот у нее получилось.
Теперь же я все чаще замечала, что она делает все это как будто нарочно. Она долбила кулаком о стену, и смотрела на меня — исподлобья и с вызовом — ну что я ей сделаю? На кулак я, кстати, реагировала достаточно спокойно — ну ей же самой больно должно быть, должна же какая-то саморегуляция срабатывать, какой-то инстинкт самосохранения! Она швыряла пенал, и другие предметы, и злилась, и выкрикивала - «а потому что!», и я просила ее собрать то, что разлетелось, и пыталась говорить с ней о том, какие есть другие способы выразить свою негативную эмоцию.
Хуже всего было это ее громкое бормотание, приговаривание, или бубнежка — она листала учебник и бормотала, писала и бормотала, рылась в рюкзаке и бубнила, бубнила, бубнила, не словами, а издавая эти громкие, но при этом не очень внятные звуки, и иногда казалось, что они сводят с ума. Младшая, которая делала уроки рядом со Старшей, за одним столом, то погружалась в свои мысли и как будто не слышала этих звуков, то вдруг взвивалась - «Я же просила тебя замолчать!». Старшая затихала, но через несколько минут все начиналось по-новой. Если же я заходила в комнату, то непременно следовал всплеск, и бормотание становилось громче, и пеналы летели, а столы пинались, и голова детки стучала в стену затылком — она откидывала ее назад в очередном возмущенном движении.
Я стала проходить по комнате, не обращая внимания на то, что девочка проделывала. Сначал мне это давалось с трудом. Потом — все легче. Однажды я вдруг подумала, что эта ее активность как будто утихла. Ну да, все правильно. «Негативное подкрепление» - это тоже подкрепление. Чем больше я детку «останавливала», тем больше она получала «знаков внимания». Чем более бурной была моя реакция, тем более сильный «отклик» шел детке. Тем больше у нее было оснований продолжать действовать в том же духе. Как только «знаки внимания» исчезли, то и вести себя таким образом стало не так уж интересно. Провокация перестала работать.
Впрочем, эта маленькая «победа» была, пожалуй, единственным, в чем я хоть как-то преуспела. Все остальное шло вразнос. Нет, это не был какой-то большой, катастрофический «разнос», с которым непременно нужно было бы что-то делать прямо сейчас. Это было словно чувствуешь постоянную «вибрацию», и не понимаешь — не то она естественна и неизбежна, не то однажды разнесет все вдребезги… Ощущение выматывало...
Мне не нравились отношения, которые стали складываться между Старшей, Младшей и мной. Я много общалась со Старшей — в основном в негативе. В позитиве я тоже старалась, но получалось отчего-то редко. Да и не хотелось особо — после того, как часа два-три пытаешься «вложить ума», садиться рядком и говорить о хорошем как-то уже не очень хочется. И мысли приходят — ну сколько же времени я на тебя трачу-то! С Младшей мы общались совсем мало, и я замечала, что все чаще мы и с ней стали обсуждать Старшенькую. В целом, это объяснялось очень просто — Старшая так «закручивала» эмоции, так «наполняла» собой пространство, что все волей-неволей оказывались вовлечены в эти ее безумные вихри. Но если раньше я могла обсуждать деткины закидоны и проявления с мужем, или с Самой Старшей, то теперь и Младшая оказалась вовлечена в эти разговоры. А иногда и сама их начинала — я понимала, что ей надо куда-то все это «выплескивать».
Старшая и Младшая иногда общались мирно и дружественно, как сестры — играли, делали что-то вместе, или разговаривали. Но я заметила, что Старшая использует Младшую как «переносчика информации». Например, если ей не хотелось что-то делать, или она хотела про что-то негативно высказаться, она говорила это не мне, а Младшей. Причем говорила так, что Младшую это цепляло, и она прибегала ко мне — поделиться и даже спросить совета, как же быть в такой вот ситуации. Я с ней обсуждала услышанное, мы искали какие-то выходы и решения, и в процессе я тоже наполнялась различными эмоциями… которые не очень понятно было, куда «пристроить». Я же узнала что-то «из вторых рук». И я не могла пойти к Старшей и выяснить все напрямую — Младшая обычно просила, чтобы я не рассказывала той, что у нас состоялся разговор.
Я могла попросить Младшую ничего мне не передавать. Но я знала, что тогда она останется один на один со своими переживаниями. Я понимала, что, как взрослый человек, должна как-то пресечь эти «интриги и разводки», поговорить с собственными детьми в открытую, и установить какой-то порядок. Но я почему-то не могла. Я не находила в себе сил. Я представляла, как я захожу в комнату, чтобы поговорить, и натыкаюсь на этот взгляд Старшей — настороженный, недоброжелательный, чужой… На эту ее усмешечку, которой она последнее время встречала практически все, что я говорила… Она пожмет плечами, и будет смотреть в сторону. А потом скажет, что «не поняла». И что она вообще не понимает, о чем я говорю. Она ничего такого не делала, и почему ее опять обвиняют.
Она "сбивала" разговор виртуозно — кидалась словами туда-сюда, оспаривала второстепенные мелочи, говорила что-то, не связанное с темой разговора, и на четвертой-пятой фразе все оказывалось запутанным настолько, что продолжать не имело смысла… И всячески давала мне понять, что мои слова для нее — ничто, в них нет ничего для нее интересного, она их и не слушала вовсе… Иногда она стала говорить мне так напрямую, ухмыляясь и пожимая плечами — я не слушаю, что ты говоришь!
В каком-то смысле, Младшая была для нее гораздо большим авторитетом, чем я. Младшая могла настоять, чтобы та выполнила какие-то свои текущие обязанности, или, наоборот, не делала чего-то нежелательного. У них были свои «счеты» не только в плохом, но и в хорошем смысле слова, и я старалась не влезать в их отношения, боясь нарушить что-то, что имело для детки хоть какое-то значение.
Авторитетом были учителя в школе. Не каждый человек конкретно, а такой «обобщенный образ» учителя. То, что сказал учитель, безусловно «перешибало» то, что сказала я. Эти две вещи даже сравнивать было невозможно. Похоже, в деткиной системе ценностей учитель был своего рода «начальством», верховной властью и силой. Я была — никто. Это «никто» не было преувеличением. Я так чувствовала. И я понимала, что этому есть обоснования. Да, я называлась «мамой», но у меня не было ни малейшего «мамского» авторитета. Для детей, тобой рожденных, ты авторитет просто в силу хода жизни. Когда-то твой ребенок шагу ступить не мог без тебя, в прямом смысле слова. Все необходимое получал из твоих рук. Все важное узнавал с твоих слов. Получал от тебя защиту, опору, поддержку, информацию, чувствовал твою любовь и силу. С годами этот «авторитет» только накапливается — жизнь идет, и возникают новые ситуации, и мама умеет сделать так, что сложное становится легким, новое — интересным, и весь мир — уютным и в целом приятным местом.
Для моей детки все было не так. Я никогда не была для нее этим «источником всего важного в жизни». И я не была «силой». И она не испытывала ко мне любви, которая вполне может заменить все «авторитеты». И уважения ко мне она тоже не испытывала — просто потому, что с таким чувством была не знакома и не питала его ни к кому.
Второй год нашей совместной жизни набирал обороты, и я с грустью думала о своих прошлогодних «больших надеждах». Как же я была наивна! Вот сейчас мы разберемся с «пропущенным», научим детку хорошему, и заживем! Как же далека была наша теперешняя жизнь от тогдашних ожиданий! Я все чаще чувствовала себя вымотанной. Детка меня все больше раздражала. Именно раздражала, и я ничего не могла с этим поделать. Поначалу я пыталась как-то справиться с этим чувством, но у меня ничего не получалось. Теперь я могла только стараться его не показывать. Это получалось, но не очень хорошо — иногда мое раздражение все же прорывалось. Мне было стыдно. Я ощущала себя несправделивой. А если на волне моего раздражения детке еще и доставалось, неважно, без дела или все же по делу, то я чувствовала себя агрессором. Несправедливым агрессором.
Хуже всего было то, что наибольшее раздражение я испытывала от ее, казалось бы, позитивных проявлений. Весь прошлый год она была мрачной, плаксивой и все время как будто обиженной — и это было плохо, и ее было жалко, и всех домашних, которые попадают в это мрачное «поле», и хотелось, чтобы детка стала веселой и радостной. И вот теперь она стала веселой и радостной. И смеющейся. И я смотрю на нее и думаю — это ужасно. Как она смеется — ужасно. И чему она смеется. Я смотрю на нее, и меня передергивает. Я не хочу, чтобы она смеялась. Я каждый раз хочу ей сказать что-нибудь такое, чтобы она перестала смеяться. И я еле сдерживаюсь, чтобы это не сказать.
Она радуется тому, что у кого-то что- то не получилось. И громко хохочет. Что ж ты так хохочешь-то, деточка? Я не говорю ей этого, я только думаю, и стараюсь на нее не смотреть, боюсь, что она прочтет все в моих глазах. А еще она радостно сообщает о том, что чего-то не знает. В прошлом году она обижалась, когда выяснялось, что она чего-то не знает. Иногда — старалась восполнить, узнать. Иногда доказывала, что чего-то знать не надо, спорила. Сейчас — да она уверена, что ничего этого знать не надо. Вот она же не знает! И мальчик Вова в школе тоже этого не знает! Детка радостно хохочет — она самая умная, она разобралась в этой жизни, теперь ее не обманешь. Люди прекрасно живут и без этих всяких книжек! Никто их вообще не читает. Никто из ее друзей никаких таких книжек не читает! Только дураки читают. А она, детка — не дура, ее не заставишь. Она смеется. У меня крутятся на языке слова - «торжествующее быдло». Я не могу это выговорить, да я бы и не стала. Детка все равно не поймет. А мне потом будет стыдно. Мне и сейчас уже стыдно.
Иногда мне становится ее жалко. Порой — просто так, оттого, что она такая дура. Иногда жалко, потому что я сама ее и обидела — а я ее обижала. Она сидит плачет, а я на нее смотрю и думаю — какая она некрасивая, когда плачет. Я часто об этом думала, и не понимала, отчего так получается — почему я не испытываю к ней того всплеска сочувствия, которое обычно вызывает плачущий ребенок? Плачущего ребенка хочется пожалеть, прижать к себе, гладить по голове, сказать ему что-то, отвлечь. Плачущий ребенок включает инстинкты помощи и защиты. Я недоумевала — почему при виде моей плачущей детки у меня ничего не «включается»? И она снова кажется мне неприятной, некрасивой, я замечаю, как у нее кривится губа, и мне хочется повернуться и уйти, а вовсе не жалеть ее, не прижимать к себе, и не отвлекать от ее горестей…
Я видела в детке много таких «некрасивостей». Смотрела на нее и думала — она мне не нравится. Мне трудно жить рядом с ней. Ей сейчас тринадцать. Я все чаще стала говорить себе - «я потерплю пять лет». Надо просто потерпеть, и через пять лет детке исполнится восемнадцать, и она уйдет жить своей жизнью. Пять лет — это огромный, невыносимый срок. Думать о нем страшно. К счастью, через какое-то время меня отпускало, и дальнейшая жизнь переставала казаться «сроком» - мы просто живем, и у нас все не так уж плохо.
Раза два она подходила ко мне с вопросом - «почему ты поссорилась с папой?» Я объясняла как могла — потому что он говорит неправду, потому что вмешивается в нашу жизнь, потому что я не хочу, чтобы она верила в то, что «любовь» - это такие вот слова, которые тебе кто-то говорит, а ведет себя вовсе по-другому. На самом деле, я часто об этом думала — как эти ее отношения с бывшим папой повлияют на ее дальнейшую взрослую женскую жизнь. Для девочки отец всегда — в какой-то мере «образец» мужчины. То, что делает папа, остается с нами на всю дальнейшую жизнь. Иногда больше, иногда меньше, но влияя на то, как мы воспринимаем другие отношения. Меня действительно пугало то, что бывший деткин папа так упорно называл все это «любовью». Неужели она вырастет, и будет искать именно такой вот «любви» - красивых слов и редких, ни к чему не обязывающих появлений время от времени? Что ж, это она найдет без проблем, было бы желание! Но как бы сделать так, чтобы она поняла, что все это — фальшь, и «папа» ее просто держит за собой эту «полянку», время от времни собирая с нее эмоциональный «урожай» - «я хороший отец», и «меня тут ждут», и даже, может быть - «я кому-то нужен»…
Детка не верила тому, что я ей говорю. Она выслушивала меня молча, и взгляд ее был чужим, а выражение лица — замкнутым. Она вставала, уходила. Я понимала, что она меня не слышит. И не просто не верит мне — она считает, что я хочу отнять у нее эту ее «любовь». А она ее отдавать не собиралась. Иногда я залезала в ее случайно брошенный мобильник, и смотрела — да, она разговаривала с папой, а вот и смс-ки — все про то же самое…
Все это выматывало, забирало силы, опустошало… Смысл терялся… Чувство вины нарастало… Все меньше было понятно — а куда же мы движемся? Будем жить дальше, детка еще больше «окрепнет», наберется моральных сил, и будет радоваться жизни… Иногда я чувствовала себя жертвой, загнанной в угол. Иногда во мне поднимался гнев, и я поднимала на нее руку, отвешивала ей подзатыльник, и… С деткой происходила метаморфоза — она вдруг вжимала голову в плечи, и шмыгала как мышь, и было во всех ее движениях что-то такое… можно было бы сказать — жалкое… Но ответным чувством была отнюдь не жалость. Я вдруг с ужасом ощутила, как во мне поднимается желание ударить еще. Я поняла, отчего агрессора «разносит» - жертва как будто провоцирует. Мне было страшно — себя самой. Обнаруживаешь в себе вещи, о которых даже не подозревал. Желание ударить слабого, вот этого — жалкого, со втянутой в плечи головой… И вдруг мелькнувшая злобная радость оттого, что она так затравленно смотрит. И мучительное, почти сверхчеловеческое усилие, чтобы — удержаться. Повернуться, уйти, найти силы где-то на донышке души, чтобы остановиться.
Я понимала, что ко мне пришло — разрушение. Это не я. Я не такая. Я не хочу ни делать ничего такого, ни испытывать этих чувств, ни даже знать я о них не хочу. Господи, я вот тут, во мраке. Как я тут оказалась? Как отсюда выбираться? И ведь не расскажешь никому, не попросишь помощи, не признаешься в таком-то… Сама иди, выбирайся. Или пропадай тут. Никто не поможет.
Продолжение...
|
|
</> |

 MoneyFest отзывы 2025: стоит ли доверять онлайн-школе
MoneyFest отзывы 2025: стоит ли доверять онлайн-школе 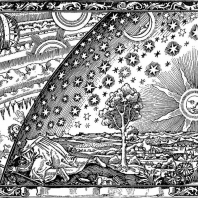 Границы и пределы
Границы и пределы  Испания. Segovia
Испания. Segovia  Квартирант и кровавое гадание
Квартирант и кровавое гадание  Стучится Осень к нам в окно.
Стучится Осень к нам в окно.  Принц. Великое отречение
Принц. Великое отречение  Выпьем за любовь!
Выпьем за любовь!  "Спор об искусстве" 2009 г. Владимир Сальников (1948 - 2015)
"Спор об искусстве" 2009 г. Владимир Сальников (1948 - 2015)  Драконы FernFesta
Драконы FernFesta 


