Жестяной маршал (окончание)
 qebedo — 09.10.2022
Нет, никаких загадочных тайн или сверхъестественных событий быстрое
возвышение Даву не содержало. Просто Николя решил использовать две
старые как мир вещи - лесть и доносы. При любом удобном случае (и
во многих неудобных тоже) он выражал восхищение, изумление и
ослепление талантами первого консула, причем не особо старался быть
искусным льстецом - для Буонапарте этого не требовалось. А еще
бывший пламенный революционер строчил доносы - на коллег-маршалов,
на генералов, на прочих подчиненных и посторонних людей. С временем
Даву даже стал начальником своеобразной "тайной военной полиции" -
Буонапарте обожал такие штуки, и у него их была туева куча (помимо
официальной полиции Фуше, осведомители были у парижского коменданта
Жюно, у начальника почты Лавалетта, у "просто приближенного
императора" Савари и пр.).
qebedo — 09.10.2022
Нет, никаких загадочных тайн или сверхъестественных событий быстрое
возвышение Даву не содержало. Просто Николя решил использовать две
старые как мир вещи - лесть и доносы. При любом удобном случае (и
во многих неудобных тоже) он выражал восхищение, изумление и
ослепление талантами первого консула, причем не особо старался быть
искусным льстецом - для Буонапарте этого не требовалось. А еще
бывший пламенный революционер строчил доносы - на коллег-маршалов,
на генералов, на прочих подчиненных и посторонних людей. С временем
Даву даже стал начальником своеобразной "тайной военной полиции" -
Буонапарте обожал такие штуки, и у него их была туева куча (помимо
официальной полиции Фуше, осведомители были у парижского коменданта
Жюно, у начальника почты Лавалетта, у "просто приближенного
императора" Савари и пр.).
Маршал Даву глядит на тех, кто его осуждает, как на гумно...
Ну и административно-репрессивные способности новоиспеченного маршала юзались по полной программе. В своем III пехотном корпусе он установил жесткий дрилл, суровую дисциплину и полицейский надзор. Впрочем, солдаты его не то чтобы любили и обожали, но были пока довольны - педантичная душа бургундца распространялась и на обеспечение своих подопечных всем необходимым, от провизии до снаряжения. Однако это была очень "суровая любовь". Один мемуарист вспоминает: "Он сурово наказывал за любой грабеж и заставлял расстреливать виновных. Однако, с другой стороны, Даву был скрупулезным в том, чтобы каждый солдат имел необходимое количество продовольствия". Другой (маршал Мармон) пишет: "Фанатик порядка, поддерживавший дисциплину в своих войсках, с заботливостью подходя к их нуждам, он был справедлив, но суров к офицерам и не снискал их любви".
При всем этом, кстати, есть сильные сомнения в том, что Даву был лично храбр. Ну да, он не убегал в тыл во время боев и оставался со своими войсками в разных опасных местах, и даже бывал ранен. Но русский разведчик Чернышов писал в своих донесениях из Парижа перед войной 1812 года, что "этот маршал не обнаруживает особой храбрости под огнем неприятеля". Можно было бы пренебречь этим свидетельством (хотя оно - агентурное донесение), если бы не еще одно заявление человека, полностью независимого от Чернышова - герцогини д'Абрантес. В своих мемуарах она посвящает Даву целую главу, в каковой, не называя его прямо по имени (но глава таки называется "Маршал Даву"), рассказывает о словах Буонапарте о некоем "одном из первых лиц армии", которому "не нравится запах пороха", но "какое мне до этого дело, пока солдаты четко выполняют его приказы". Намек более чем прозрачен...

И еще одна забавная история - "просто забавная". Даву во время командования лагерем в Дюнкерке заинтересовался прожектом одного сумасшедшего генерала, предлагавшего отловить дельфинов и обучить их перевозить на спине вольтижеров. Вторжение "дельфинерии" в Англию едва-едва не случилось... Только откровенный стёб и смех офицеров его штаба "натолкнули" маршала на мысль, что это просто бред сумасшедшего. В общем, Даву просто стал "верной собакой императора", не гнушаясь даже необходимостью быть собакой кровавой. За что Буонапарте его "оценил, пригрел и возвысил". История старая, как мир.
Ну а потом грянул 1805 год, и III корпусу пришлось воевать. 8 ноября состоялось сражение Даву с "корпусом" генерала фон Мерфельда, каковое "давустофилы" любят объявлять выдающейся победой. На самом же деле бой вела авангардная бригада генерала Ёделе (3 800 человек), и заключался он в том, что французы напали на драпавшие из-под Ульма разложенные и деморализованные 4 000 человек Мерфельда. Собственно, "характер боя" передают потери сторон: французы потеряли трех вольтижеров, а австрийцы - 2 000 пленных и 16 орудий.

Сражение при Ауэрштедте (смертельное ранение герцога Брауншвейгского)
Но под личным руководством императора маршал Даву всегда знал, что надо делать - в сражении при Аустерлице он всякоотличился и пожал свою часть лавров. Следующего же подвига пришлось ждать долго - до 14 октября 1806 года, когда состоялось сражение при Ауэрштедте. О, вот она, тема бесконечного захлебывания
На самом деле "командование" Даву свелось к скаканию от каре к каре и призывам "не посрамить! постоять!", да приказам подошедшим дивизиям идти сперва на правый фланг (который был в это самое время атакован), потом на левый (тоже атакованный). Судьбу боя решила стойкость и выучка солдат, отбивших все атаки пруссаков, а паче того сами пруссаки - их атаки были организованны так безобразно, что в каждой из них они не имели численного превосходства (несмотря на общий перевес в два-три раза), а резервный корпус Калькройта так и простоял на месте, хотя его удар во фланг мог решить исход боя (все пруссаки, в том числе Клаузевиц, сходятся на этом).
Однако на войне всегда важен результат, а подробности интересуют мало кого. И Даву был в одночасье объявлен военным гением, чудо-богатырем и "Железным". "...Даву, как бы хорошо не служил до этого, и несмотря на звание маршала, до которого дослужился, - все же был малоизвестен. Казалось, что император вознаграждал его за личную службу и личную преданность, за славу. Такое о нем было мнение. Но в славный день Ауэрштедта Даву доказал полностью своей гений и свое упорство, и не упустил представившуюся ему возможность. Он оправдал выбор императора и, будучи до этого времени малоизвестным, стал знаменитым", - писал позднее граф де Сегюр.
Нет, чтобы сразу внести ясность и не заниматься лживой клеветой - маршал Николя Даву не был бездарностью (как не был и отъявленным трусом). Когда сзади стоял император и подбадривал своими советами или просто присутствием - бургундец сражался умело и "с выражением", что он доказал и в 1807 году у Прёйсиш-Эйлау, и в 1809 году у Тойгена и Экмюля. Перед Ваграмом даже пребывающий в приподнятом настроении духа Буонапарте восклиЦнул: "Завтра Даву добудет мне еще одну победу!", что тот и доказал в день сражения. Но... после Ауэрштедта более случая отличиться самому, без императора, у него не было до самого 1813 года. То ли Аполион ревновал к его славе, то ли не верил в способность действовать самостоятельно - отдельного командования бургундец не получал. В Испанию, например, Буонапарте посылал "кого угодно" - Жюно, Монсе, Ожеро, Журдана, Виктора - но Даву к ней даже не приблизился за всю свою карьеру. В полной мере к нему можно отнести слова императора о том, что его маршалы хорошо сражаются лишь в его присутствии.
Нет, император знал, как "правильно юзать" свою "кровавую собаку". В 1808 году он жалует Даву титул герцога Ауэрштедтского и назначает его генерал-губернатором только что созданного герцогства Варшавского. Там, к слову, маршал проявил себя наблюдательным человеком, всячески доказывая выгоды предоставления полякам большей сводобы, чтобы разжечь в них энтузиазм и поиметь с этого более профита. Но, верный себе, Даву сохранил тяжелую руку и суровую беспощадность. Единственная симпатичная черта - он не брал взяток и не грабил для личного обогащения. И Буонапарте сие ценил, часто и щедро одаряя любимца и отвечая завистникам: "Я много ему даю, потому что он сам не возьмет и не попросит".

Сражение при Вязьме
В 1809 году маршал был произведен в князи Экмюльские и назначен губернатором Ганзеатических городов и командующим оккупационной армии в Германии. Гамбургжане и прочие ганзеатические немцы сохранили о нем злую память - полицейский режим, жестокая цензура, аресты и казни принесли Даву прозвища "Свирепый маршал" и "Робеспьер Гамбурга". Немало поспособствовал своими полицейско-разжгательскими доносами он и охлаждению отношений между Францией и Россией, приведшему к войне в 1812 году.
На эту войну "маршал-неряха" отправлялся в зените славы. Под его командой был I корпус, составленный сплошь из французов, самый большой в армии (пять дивизий). Правда, было много новобранцев - но кому, как не "гению дрилла и драла" было сделать из них приличное войско? Однако война сия не только не добавила герцогу Ауэрштедтскому и князю Экмюльскому новых лавров, но и пооборвала старых. 2 ноября 1812 года Даву, вопреки завываниям легиона своих фанатов о "непобедимом маршале, ни разу не побитом на поле боя", был жестоко разбит у Вязьмы Милорадовичем - войска его корпуса попросту бежали, а целая бригада сдалась, и если бы не стойкость Нея, потери были бы куда большими. Затем корпус Даву учинил в Смоленске погром, уничтожив запасы, которых всей армии хватило бы на несколько недель.
Затем князь Экмюльский не дождался подхода Нея под предлогом отсутствия продовольствия и ушел, бросив III корпус в окружении - но Ней пробился, потеряв много солдат и все орудия, и жестоко потом лаялся в присутсвии императора на герцога Ауэрштедтского (они вообще друг друга давно уже ненавидели). Репутация Даву упала ниже плинтуса не только в армии, где она вообще никогда высоко не поднималась, но и в глазах императора. Тот "высказал неудовольствие" бывшему любимцу, заявил, что "среди моих маршалов командовать армией в 30 000 человек могут только Сен-Сир и Сульт!" и, уезжая нафиг из армии, назначил за старшего Мюрата - он король Неаполитанский, всем его бояться!

Надо отметить, что вера Буонапарте в Даву с тех пор так и не восстановилась. В 1813 году князь Экмюльский был послан в "деревню, в глушь, в Хамбург" с двумя дивизиями новобранцев, где снова не блеснул - пока силы осаждавших были малы, действовал медленно и вяло, а потом подошла Польская армия Беннигсена и заперла его в городе до конца войны. На этом фоне смешно читаются вопли бонапартиздов о "полугодовом ласт-стэнде" и "единственном оставшимся непобежденным отряде французской армии"... Ну а в 1815 году, во время Ста дней, Буонапарте поставил Даву на пост военного министра - вот что у тебя, милый друг, получается, то и делай, а на войну я возьму Нея и Сульта, да вон еще Груши в маршалы произведу...
Остатки жизни Даву проводит в своих поместьях. Что характерно - он занялся виноделием, но его вино было такого низкого качества, что нравилось только ему самому. В 1817 году Бурбоны даже возвратили ему жезлу маршала, а в 1819 году - звание пэра Франции, удобрив его орденом св. Людовика. Умер он в 1823 году от туберкулеза. Предсмертные же его слова можно воспринять либо как верх лицемерия, либо как крайнюю степень самообмана: "Я прожил жизнь честного человека; я умираю незапятнанным"...
|
|
</> |

 Заказать продвижение сайта: как выбрать оптимальную стратегию
Заказать продвижение сайта: как выбрать оптимальную стратегию  О прямой и явной угрозе для Путина Главная цель «Томагавков» назначена?
О прямой и явной угрозе для Путина Главная цель «Томагавков» назначена?  Заигрались
Заигрались  Прага, день третий. Смена караула, музей иллюзий, средневековое шоу
Прага, день третий. Смена караула, музей иллюзий, средневековое шоу  От Медведково до Улицы 1905 года.
От Медведково до Улицы 1905 года.  «Великий грабитель восточных гробниц»
«Великий грабитель восточных гробниц»  Йоав Блум - Творцы совпадений
Йоав Блум - Творцы совпадений 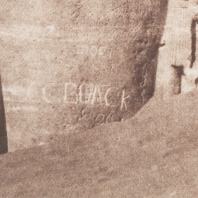 Абу-Симбел. Европейские надписи 1800-1830-х годов на колоссах, откопанных
Абу-Симбел. Европейские надписи 1800-1830-х годов на колоссах, откопанных  Покровское сражение приближается к финалу
Покровское сражение приближается к финалу 



