Из Томска в Семиречье (В. В. Сапожников)
 rus_turk — 19.09.2023
В. В. Сапожников, профессор Императорского
Томского университета. Очерки Семиречья. I. Джунгарские степи.
Балхаш.
rus_turk — 19.09.2023
В. В. Сапожников, профессор Императорского
Томского университета. Очерки Семиречья. I. Джунгарские степи.
Балхаш. 
1. Степь к югу от Семипалатинска
I. Томск — Семипалатинск
Направляясь ранней весной в Джунгарские степи, я должен был прежде всего добраться до Семипалатинска, куда из Томска существуют два пути: более короткий на Барнаул и Змеиногорск и более длинный через Омск вдоль Иртыша. Взвешивая относительные достоинства того и другого, и особенно принимая во внимание, что степная дорога по Иртышу раньше освобождается от снега, я остановился на втором пути, но, как потом оказалось, едва ли что-нибудь от этого выиграл. Мне пришлось испытать все тернии переходного времени от зимы к лету, именуемого бездорожьем и распутицей и с проведением железных дорог уходящего в область доброго старого времени. На этот раз распутица была осложнена еще особенными обстоятельствами, и картина получилась настолько типичной, что я считаю необходимым уделить ей несколько строк.
Выехав из Томска 29 марта, я с комфортом в отдельном вагоне доехал до Омска, где по моей просьбе были приготовлены тарантасы. Однако мне пришлось на них только полюбоваться, так как всюду лежал снег, и выехать на санях. Имея до 40 пудов багажу, я заранее обрекал себя и своих помощников на хлопотливую и докучливую перекладку на каждой станции, но выбора не было, время уходило, а флора азиатского юга являлась неотразимой приманкой. 2 апреля при пожеланиях счастливого пути со стороны знакомых, — пожеланиях, на этот раз особенно уместных, и при скептическом покачивании головой почтового старосты, я выехал на Семипалатинск.
В поле была еще зима; правда, снежный покров сделался тонким, но
по логам лошади проваливались по брюхо, и до колесной дороги было
еще далеко. Холодный северо-западный ветер пронизывал шубу и к ночи
принес мороз (–3,5 °C). Однако на пригорках появились
небольшие чернеющие проталины, на которых толклись грачи и гуси да
перепархивали скворцы и жаворонки. По мере движения вперед
проталины делались шире, и сани все чаще скрипели полозьями по
земле, так что на третьей станции (Ильинской) сани пришлось сменить
на телеги. Узкая полоса земли вдоль яра над Иртышем совершенно
очистилась от снега, и здесь езда на колесах была вполне удобна, но
прорезавшие яр глубокие овраги заставляли удаляться в материк, где
еще лежал снег, особенно глубокий и рыхлый у березовых колков:
здесь мы повозились с проваливающимися повозками. Только к концу
второго дня я добрался до станицы Черлакской, находящейся в
130 верстах от Омска. Иртыш стоял еще прочно; лишь кое-где
появилась наледь и открылись небольшие полыньи, на которых белели
стада лебедей. Морозы поддерживали лед, и даже начавшая было
прибывать вода опять спадала. У берега стоял зимовавший здесь
пароход, но от него было мало толку, потому что надежды на близкое
вскрытие реки не было. Приходилось опять выезжать на лошадях, а это
не так-то легко; почтовых лошадей под различными предлогами нам уже
давно не давали, и нужно было бегать по селу и отыскивать вольных;
после долгих поисков находились охотники и в виде особенного
одолжения соглашались везти за тройную, четверную и даже пятерную
цену. Часто проезд одной станции мне обходился в
Картины одна другой безотраднее ждали нас по пути. По обе стороны дороги валялись ободранные и уже объеденные остовы или свежие трупы лошадей, над которыми вились вороны, сороки, а изредка и орлы. Между трупами на редких проталинах уныло бродили оставшиеся в живых страшно исхудавшие коровы и лошади, прикрытые от холодного ветра различным тряпьем, выгрызая корни прошлогодней травки вместе с землей. Многие из них — несомненные кандидаты на обед воронам и собакам (только они и отъелись минувшей зимой!) Вон обессилевшая от голода лошадь легла на бок, и только редкое дыхание указывает на едва теплящуюся жизнь; но она уже не может отмахнуть сороки, которая подбирается к голове, чтобы выклевать еще теплые глаза. Но если вовремя «поднять» лошадь и осторожно покормить хлебом, то иногда удается вернуть к жизни умирающее животное. Слово «поднимать» в бескормицу — terminus technicus; заботливые хозяева только и делают целый день, что ходят в поле «поднимать одров».
У одиноких заимок нередко можно было видеть длинные жерди, сплошь увешанные ободранными лошадиными шкурами, — живим доказательством погрома. Да, жестокая была весна!
Отсиживаясь по несколько часов на станциях, пока разыскивали и кормили лошадей, медленно подвигаясь, то по снегу, то по земле, и заранее думая о неприятной перспективе предстоящей отсидки на следующей станции, чувствуешь полную зависимость от всех этих словно нарочно сложившихся неблагоприятных обстоятельств и не знаешь, когда же вырвешься из этого холода и снега к теплу и зеленым лужайкам!
Только 7 апреля к вечеру уже по летней дороге мы добрались до
Павлодара, лежащего на половине пути до Семипалатинска.
Надежда отправиться отсюда на пароходе не оправдалась, потому что
Иртыш по-прежнему благополучно стоял. 8 апреля двинулись
дальше. После теплого дня нас вновь встретил буран, за ночь все
укутавший в белую пелену. Благодаря некоторым чрезвычайным мерам
подвигались все-таки скорей, чем прежде, и наконец в
Лебяжьей 9 апреля к всеобщей радости увидели открытую
воду; Иртыш здесь вскрылся 6 дней тому назад; вода поднималась
довольно высоко, но с холодами быстро сбыла, оставив около самого
села нагроможденные глыбы льда. Наша радость, впрочем, была более
платонической, потому что зимовавший здесь пароход ушел в
Семипалатинск, и нам нужно было продолжать путь прежним способом.
Пришлось еще посидеть на станциях и даже полночи провести в овраге,
наполненном глубоким снегом, куда в темноте засадили мой тарантас,
пришлось еще раз бросить тарантас и прокатиться по зимней дороге в
санях, но все же освобождение было близко: в Семиярской я услышал
пароходный свисток. Любуясь через несколько часов с пароходного
мостика на широкую полосу воды и прислушиваясь к ритмическому
перебою колес, я освобождался от острых ощущений только что
пережитых картин бескормицы и терний бездорожья. Во всем
чувствовалось уверенное и теплое дыхание весны. Гладкая поверхность
реки была усыпана тысячами уток, державшихся парами; они
подвигались на север вслед за отступающим льдом. При приближении
парохода утки поднимались тучами и пересекали воздух в различных
направлениях, но общая сумма движения была все туда же на север. На
берегах среди оставленных половодьем ледяных глыб, разбросанных
среди не распустившихся еще тальников, кое-где чуть зазеленела
молодая трава. Вдоль правого берега за широким лугом, пестрым от
свежевыпавшего и тающего снега, протянулась темная полоса соснового
бора; он тянется вплоть до Павлодара, но там он значительно
отступает от реки и потому с дороги виден редко. На юге показалась
горная группа
Когда был удовлетворен первый голод созерцанием просыпающейся
весны, я разговорился с единственным случайным пассажиром парохода,
хорошим знатоком местного края г. Р. о всем виденном, не
преминул упомянуть о странном впечатлении, которое произвели на
меня некоторые станицы с слоняющимся по улицам мужским населением,
как в праздники, когда край постигнут несчастием и близок к
разорению. Странные и грустные вещи услышал я в ответ! Беспечность
населения станиц сказывается во всем. Осенью продают сено по
На пароходе мы, однако, проехали недолго; на другой день между Долонской и Белокаменной пароход поломался, и я, не желая задерживаться, вновь вышел на берег и отправился на телеге в Семипалатинск, но теперь уже по прекрасной летней дороге. Прибрежный луг, по которому пролегал наш путь, под яркими лучами весеннего солнца быстро оживал; между кустарниками появился адонис (Adonis villosa Ledb.), лютик (Ranunculus polyrhizos Steph.) и гусиный лук (Gagea liotardi Schult.), а ближе к Семипалатинску обильно зацвели белые тюльпаны (Tulipa sylvestris L.). На озеринках копошились гуси, утки, между прочими и красная утка (варнавка — Tadorna rutila), над болотом перелетали чибесы, перекликались кулички и трепетно вырывался бекас… Весна пришла с теплым южным ветром.
Верст за 18 до Семипалатинска я посетил по дороге чудное местечко — Святой ключ, обозначенный церковью, стоящей в саду, огороженном изгородью. Здесь под невысоким утесом из земли выходит мощный ключ прозрачной воды; выход похож на пещеру до 2 аршин в диаметре, и выходящая вода выпучивается как бы под большим напором.
К вечеру в страстную пятницу я достиг Семипалатинска и здесь остановился на три дня, чтобы подождать отставших товарищей и встретить Пасху.
II. От Семипалатинска до Копала
15 апреля я с своими спутниками выехал из Семипалатинска;
миновали двойной перевоз-самолет, проехали предместье левой стороны
Иртыша, и пред нами развернулась на многие сотни верст широкая
степь.

2. Возвышенность Арганаты
С восходом солнца мы оставили Укунын-качскую станцию и сразу попали в пески; это были первые пески на нашем пути. По обе стороны дороги возвышаются песчаные бугры, слегка подернутые кустарниками, между которыми пребладает чингиль (Halimodendron argenteum). Песчаная дорога устлана камышом, но все-таки колеса глубоко тонут в сыпучем грунте, и ехать возможно только шагом. На второй половине переезда пески переходят в плотную, зеленеющую глинисто-солончаковую степь, ограниченную с юга горами Арганаты, — особняком стоящими у восточного конца Балхаша (Рис. 2). На станции Арганатинской. расположенной в безлесной долине невысокого кряжа, я остановился на несколько часов, чтобы сделать экскурсию и с высоты посмотреть на Балхаш, северо-восточная оконечность которого находится отсюда на расстоянии около 20 верст. Экскурсия по скалам и лощинам около пикета была довольно богата по сбору: прихотливость рельефа принесла с собой и разнообразие растительности; Thalictrum isopyroides С. А. Меу, Anemone biflora DC, Adonis aestivalis L., Ranunculus platyspermus Fisch., Ceratocephalus orthoceros DC, Corydalis longiflora Pers., Meniocus linifolius DC, Berteroa spatulata C. A. Mey, Chorispora tenella DC, Sisymbrium Sophia L.. Viola tricolor L. var. arvensis Murr., Astragalus arganaticus Rgl. et Herd., A. testiculatus Pall., Trigonella striata L., Eritrichium rupestre Bge, Androsace maxima L., Iris tenuifolia Pall. и др. опередили раннюю растительность равнины. С западной вершимы Арганатинского кряжа развертывался широкий вид на долину, прилегающую к берегу Балхаша, и отчасти на самое озеро, но даль все-таки была в туманной дымке.
После полудня мы выехали дальше и прежде всего поднялись
ущельем на перевал (около
Степь на юг от Арганаты представляет глинистую почву, не покрытую дерном и уже спекшуюся комками и потрескавшуюся, несмотря на раннюю весну. Она также покрыта тюльпанами и полынью, но рядом появляются кудрявые кучки «сасыра» (Ferula sp.); мелкая зелень которой в небольшом количестве считается очень полезной для лошадей, а высокая дудка идет на топливо, и распластанные по земле лепешки ревеня (чукур) с красными кулачками нераспустившихся соцветий (Rheum tataricum); кое-где видны кудрявые метелки Megacarpea laciniata DC с грязно-розовыми цветами, Erysimum canescens Roth., Cerastium maximum L. var. falcatum Rgl., Holosteam umbellatum L. var. pleiandra Fenzl., Geranium tuherosum L. Astragalus farctus Bge, Rhinopetalum Karelini Fisch., Tulipa altaica Pall. u biflora L, Eremurus altaicus Stev,, Gagea chlorantha Schiilt, а ближе к земле сидит Meniocus linifolius DC.
Станция Ащибулак стоит на берегу ничтожного ручья, затерявшегося в глубокой промоине лесса с вертикальными осыпающимися стенами. Вокруг пикета есть девять землянок, где ютятся бедняки киргизы. Дальше дорога поднимается на отлогую степную волну и довольно крутой лощиной спускается к пикету Кинжиги-булак, перед которым насажена довольно большая рощица карагачей. По словам старосты, в стороне есть площадь до 4 десятин, также обсаженная карагачами. Дерево это принимается в степи довольно хорошо, но в первые года после посадки требует поливки; можно надеяться, что при утилизации снеговой воды удастся со временем облесить многие участки степи и тем сделать их более удобными для поселений, которые сейчас расположены только по берегам степных рек.
Переночевав в Кинжиги-булаке, утром мы под дождем доехали до селения Романовского Гасфордский перевал начинается довольно крутым подъемом в скалистом ущелье. Крутые осыпи между скалами были покрыты весенней растительностью; цвели таволга, миндаль, розовая Arabis fruticulosa С. А. Mey., Geranium tuberosum L., Fritillaria с черно-пурпуровыми цветами, Tulipa gesneriana L., Iris и др. С высоты перевала (1075 метр.) открывается далекий вид на вторую складку Д. Алатау, еще совершенно белую от зимнего снега. Постепенный спуск привел нас в высокую степную бухту, заходящую между отрогами Алатау с запада. Сменили лошадей на станции Арасан, известной своими минеральными источниками. Здание с ваннами находится в стороне от небольшого поселка в саду из тополей и карагачей, которые, однако, еще едва распускались, что зависело, конечно, от высоты Арасана. В здании имеется несколько ванн с натуральным дном, оттуда вытекает вода с явственным запахом сероводорода. Температура воды 35,5 °С. Прежде эти воды посещались больными довольно усердно, но в последние годы число посетителей сильно убавилось, вероятно, отвлеченных Барлыкскими источниками.
Отсюда той же возвышенной степью, где местами видны выходы гранитных скал с котлами выдувания, мы достигли г. Копала, по большей части утопающего в посадках карагача. Копал — небольшой захолустный город с русско-татарским населением; вместе с станицей здесь насчитывается около 6000 населения. Вокруг расстилается безлесная равнина, а ближайший отрог Алатау отсюда верстах в 8. Старожилы рассказывают, что еще не так давно с южной стороны города был прекрасный лес, тогда как сейчас остались лишь тальники но берегу р. Копалки. Лес в город доставляют из-за ближайшего хребта из долины р. Коры. Не найдя в Копале уездного начальника, которого я просил подготовить верблюдов и лошадей для поездки на Балхаш, я выехал дальше в урочище Алмалы, находящееся между станциями Акичке и Сарыбулак. Дорога пролегает у самого подножия Алатау, спускаясь по временам в глубокие овраги речек, переполненных водой. Уже в темноте мы подъехали к громадному лагерю, разбитому в ур. Алмалы по поводу киргизского съезда и ярмарки, и скоро отыскали юрту уездного начальника В. С. Гаврилова, который сообщил мне, что для поездки на Балхаш все уже готово, и любезно предоставил в наше распоряжение свой вигвам. Под звонкие трели лягушек (Bufo viridis) и отдаленные звуки засыпающего лагеря мы обсудили подробности предстоящей поездки на Балхаш.
Следующий день прошел за отборкой необходимого багажа, так как всего брать с собой не представлялось надобности; кроме того, часть дня посвятили посещению ярмарки и киргизского съезда. Здесь обсуждались на вольном воздухе различные общественные дела, в особой юрте производился суд, тут же велась передвыборная агитация в пользу излюбленных кандидатов партий, и все это было полно движения, как в калейдоскопической картине.
Того же автора:
• Зыряновск (По Алтаю. Дневник путешествия 1895 года)
Описания населенных мест:
• Акмолинская область https://rus-turk.livejournal.com/539774.html
• Семипалатинская область https://rus-turk.livejournal.com/548880.html
• Семиреченская область https://rus-turk.livejournal.com/555456.html
|
|
</> |

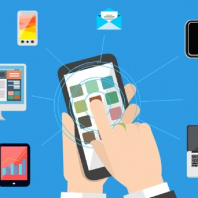 Виртуальные номера для регистрации: удобство и безопасность современных решений
Виртуальные номера для регистрации: удобство и безопасность современных решений  Стихотворение называется "Под Муз решил подстроить имидж ..."
Стихотворение называется "Под Муз решил подстроить имидж ..."  Новая вышивка в процессе
Новая вышивка в процессе  Кто обзывается...
Кто обзывается...  Город детства
Город детства
 В Дом отдыха писателей по профсоюзной путевке
В Дом отдыха писателей по профсоюзной путевке  Вороны туманным утром
Вороны туманным утром  Осень в ленту
Осень в ленту  Мудрость в картинках. 41.
Мудрость в картинках. 41. 



