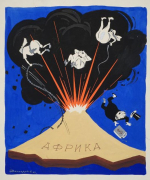Историки и представители "второй древнейшей"
 64vlad — 02.10.2010
(Эту статью я писал три года назад. Сегодня она
показалась мне еще более актуальной.)
64vlad — 02.10.2010
(Эту статью я писал три года назад. Сегодня она
показалась мне еще более актуальной.)Изюминка в том, что после срыва заглушек КПСС вместо правды на людей обрушились информационные потоки новых мифов. Массовыми тиражами книг, из Интернета, газет и с экранов телевидения. Причем мифов взаимно исключающих друг друга (как следствие «плюрализма») – и настолько, что люди окончательно запутались. Самое забавное в том, что их сочинением и тиражированием занимаются по большей части не историки-профессионалы, а публицисты и журналисты всех мастей (от Л. Млечина, Н. Сванидзе и Э. Радзинского до А. Проханова, А. Бушкова, Н. Мухина, С. Кара-Мурзы, а между ними блуждают М. Веллер, В. Шамбаров и несть им числа). Бывшие перебежчики из советской разведки вроде Г. Климова и В. Суворова (Резуна), внезапно заделались «патриотами» с тремя «р» и с важным видом занялись публикацией псевдосенсационных «открытий» в истории. Не говоря уже о скандально известном математике Н. Фоменко – «изобретателе» дикой путаницы и абракадабры, претенциозно названной им «новой хронологией мировой истории». У профессиональных историков не находится денег на публикации тиражом больше 3 тысяч экземпляров (и то в случае большого везения), а у шустрых изобретателей «горячих сенсаций» тиражи зашкаливают за 50, а то и за все 100 тысяч. И благо цензуры теперь нет, ответственности за свою брехню они не несут никакой – наоборот, резво огребают гонорары, а робкие опровержения дикого вранья и элементарных ляпов со стороны профессионалов тонут в море книжного рынка.
Отчасти историки виноваты сами. Как говорил Козьма Прутков, «узкий специалист подобен флюсу». Советский строй приучил их заниматься узко конкретными темами, запрещая подниматься до масштабных исследований и уж тем более до серьезных мыслей и обобщений: это поле оставалось заповедным, в нем монопольно правили закосневшие в маразме, безграмотные партийные идеологи вроде Суслова. Поэтому не было естественного отбора. В итоге оборотистые выжиги и хваткие журналисты стали делать на этом хороший бизнес (и в конце концов не важно, верят ли они сами во все, что пишут).
Здесь самое время провести провести параллель с медициной и способами лечения. Мифы родились не на пустом месте: они заполонили вакуум, образованный крахом двух самых распространенных в прежнее время теорий. Одна из них – теория марксистская, до 1991 г. бывшая у нас официальной. Рассматривая историю как последовательную смену социально-экономических формаций (первобытной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической), двигателем которой является борьба общественных классов (в соответствии с первым законом диалектики Гегеля о борьбе противоположностей как необходимом источнике любого развития), она считала революции проявлением второго закона того же Гегеля о «переходе количества в качество» (как в биологии: росла-росла себе куколка, бац – и в одну ночь превратилась в бабочку). А раз так – да здравствуют революции, «локомотивы истории»! Для них все средства хороши, вплоть до самого кровавого насилия, отбросить либеральные слюни насчет гуманности! Гуманность должна быть «классовой», только по отношению к своим, все эти общечеловеческие ценности – буржуазные сказки для обмана трудящихся. И в конце концов разовьется такая мощная производственная база (на основе капитализма), которая позволит последнему из угнетенных классов – пролетариату, уничтожив эксплуатацию человека человеком, распределить все материальные блага в изобилии для всех и создать сказочное общество равенства и всеобщего благоденствия, где не будет ни государств, ни войн, и все нации сольются в упоительном экстазе мировой коммунистической революции.
Вторая теория – либерально-позитивистская, родившаяся раньше марксистской и прожившая дольше, не столь стройна, но и не столь категорична. Не придавая такое решающее значение, как марксисты, формам собственности, во главу угла она ставит не социальное уравнение и освобождение от «эксплуатации», а всевозможные свободы личности – в бизнесе (куда не должно вмешиваться государство) и труде, в выражении своих мыслей, политике и культуре. А обеспечить такое общество может лишь политический строй, основанный на демократии и разделении властей.
При всем различии этих теорий и внешнем антагонизме их носителей, в них можно четко выделить общие черты. Первое: выдвижение на первый план фактора экономики, которой подчинены и структуры общества, и все сферы политики, и культура (в соответствии с материалистическим пониманием: «бытие определяет сознание»). Как в том анекдоте про четырех великих евреев, собравшихся и заспоривших о том, от чего зависит развитие мира. Спиноза постучал себя по темечку и сказал: от ума. Маркс похлопал себя по желудку: мол, от материальных потребностей. Фрейд указал на свой половой орган. А Эйнштейн пожал плечами и сказал: ребята, вообще-то все относительно. Но этой относительности ни марксисты, ни либералы никогда не понимали. И не могли объяснить: например, почему в экономически и политически отсталой николаевской России XIX века (еще до реформ) начался мощный расцвет культуры? Почему своеобразнейшую и тонкую цивилизацию создали еще более экономически отсталые средневековые Индия и Китай? И наоборот: почему индустриально мощная, уже более столетия лидирующая в мировом технико-экономическом первенстве Америка так культурно бедна в сравнении хотя бы с родственными цивилизациями европейских стран? И не пытаются объяснить: не вписывается это в рамки их теорий.
Второе. При всех противоположностях, и марксисты, и либералы строят свои схемы развития для всего человечества. То есть, признавая «местные» особенности в укладе и истории разных стран, их «магистральный» путь считают единым. Просто одни народы опережают, другие отстают. Но путь, дескать, у всех один. Поэтому не случаен интернационализм тех и других. Забывая о поговорке: «что русскому хорошо, то немцу смерть».
А отсюда – и третье заблуждение: раз путь общий, то и цель одна, идеал один. Марксисты считают таким идеалом коммунистическое общество, а либералы – рыночно-демократическое западного образца. Вот и вся разница. И забывают о том (вроде бы во всем остальном признавая диалектику), что развитие бесконечно. А раз так, то ни коммунизм, ни современная западная цивилизация не могут являться его конечным пунктом.
А главное: поиски «единого для всех» идеала с треском провалились. Сначала потерпела крах марксистская теория – с распадом СССР и мировой системы социализма, зашедшего в тупик по мере своего развития. Эксперимент оказался нежизненным и бесперспективным.
Но рано торжествовали либералы всего мира. Почти тут же вслед за этим рухнули и надежды на реформы в бывшем СССР и ряде других стран по либеральной западной модели. Ни в странах «постсоветского пространства», ни тем более в мире мусульманской культуры "не сработало". Напрасно марксисты и либералы игнорировали культуру и национальный уклад. Ведь они у всех разные не только и даже не столько по «уровню», сколько по типам. Как в той старой шутке: «грузин – это профессия, еврей – это черта характера, чукча – это диагноз, а русский – это судьба».
Выходит, те и другие заблуждались в главном: в методологии своих теоретических построений. Сокрушительный крах коммунистических и либеральных схем привел наконец многих (не скажу – большинство) политиков и историков к пониманию, что у всех путь свой, и общего идеала, математической формулы развития быть не может. На Западе эту идею наиболее последовательно сформулировал еще в середине ХХ века признанный английский мыслитель и историк А. Тойнби в своей теории цивилизаций, основанных на разных приоритетных (для каждого народа) ценностях. На Западе над ним большинство тогда смеялись, считали «реакционером». И лишь после событий 90-х годов стали задумываться всерьез. Стали изучать метод Тойнби, назвали его «культурно-цивилизационным подходом».
Но, поскольку поняли это еще далеко не все (да и сам этот подход является многовариантным), крах привычных схем вызвал наводнение самыми разными теориями и мифологиями. На Западе их не так много: все же там укоренились свои, давно отработанные и отшлифованные духовные и ценности (хотя и они сейчас переживают серьезный кризис, но об этом – потом). В России же, пережившей за одно Двадцатое столетие два взаимно исключающих переворота в развитии, наводнение мифами стало тотальным, а мифы – самыми что ни на есть фантастическими. И тоже взаимно исключающими.
Но при всей диковинной разноголосице можно выделить несколько типов, так сказать, «мифологий». Печальнее всего то, что их создают сами историки, а публицисты подхватывают и выдают за собственные, приукрашивая порой откровенным бредом.
Мифология либеральная. Она еще жива, хоть и изрядно пообносилась. Но уж больно заманчив пример Запада – и не только для тех, у кого на первом месте желудок. Прямо скажем, для большинства российской «образованщины», традиционно воспитывавшейся на преклонении перед европейской культурой – некритическом, порой даже лакейском, ведущем историю со времен после Петра. В общих чертах она такова: Россия – страна отсталая, самодержавие было «слишком» реакционным и тормозило ее развитие, вместо реформ занимаясь бряцанием оружием и ненужными (с точки зрения либералов) завоевательными войнами. И даже лучшие его представители (к которым они причисляют умеренно либеральных реформаторов, вроде Александра II, Витте и Столыпина) не сумели преодолеть косной инерции строя, который пытались изменить. Народ был нищим и еще более отсталым, благородная либеральная интеллигенция (от декабристов и Герцена до кадетов) пыталась его просвещать и указывать правильный путь, но он, увы, «не созрел» для понимания великих задач, и в результате стал жертвой в руках экстремистов – большевиков, которые навязали ему наихудший из возможных эксперимент, истребляли милую интеллигенцию и установили кровавый тоталитарный режим. То, что коммунисты пришли к власти в России и других «отсталых» (в понимании либералов) странах, служило для них лишним доказательством того, что идея коммунизма была варварской. Потом он развалился, с помощью возродившейся героической интеллигенции (в лице диссидентов) и было появилась долгожданная возможность построить светлую западную демократию, но злокозненные чиновники из числа перекрасившихся бюрократов КПСС коварно узурпировали власть и «приватизировали» новый строй под себя, а в итоге снова насаждают авторитаризм и угнетают бедную демократию. Какой вывод может быть из подобных рассуждений? Вывод ясен: страна отсталая, народ тупой, единственное ценное в ее истории – это возвышенная борьба умных и тонких интеллигентов, от декабристов до Сахарова (об этих «кумирах» – отдельно).
Самое любопытное, что, называя изначальные причины «отсталости», либералы используют факты, имевшие (и имеющие) место в действительности. Географическая удаленность от «очагов европейской цивилизации». Суровый климат. Принятие христианства не по западному католическому, а по византийскому православному обряду, которое многие из них считают одним из самых «роковых» моментов нашей истории. Монголо-татарское иго, наложившее несомненный (хотя и, позвольте сказать, не решающий) отпечаток на формировавшуюся государственность. Все эти факторы непохожести России на страны Запада они интерпретируют как факторы отсталости. Почему? Та же Япония еще более далека от Запада географически, религиозно и культурно, и климат в ней тоже не ахти, но страна за последние полвека сумела выйти в число мировых лидеров, построить свою национальную модель демократии, и японцы ничуть не комплексуют от несходства с Европой и Америкой. А Китаю и сохранившийся до сих пор тоталитарный режим не помешал семимильными шагами идти вперед. Но либералы попросту зациклены за западной цивилизации, для них она – родная и любимая, а сохраняющееся (надолго ли?) мировое лидерство Америки для них самый ценный козырь и неоспоримый аргумент ее единственной и неповторимой ценности.
Мифология национал-коммунистическая. Заметьте: изначально коммунисты, вслед за Марксом и Лениным, были космополитами, интернационалистами. Так же, как и либералы (опять это сходство антиподов!). И революцию замышляли как всемирную. На рубеже XIX–XX столетий коммунистическая идея имела широкое распространение и на Западе (сде, собственно, и родилась). Ибо западное общество было далеко не таким благополучным, как сегодня, при всей рыночной экономике и демократии была колоссальная социальная поляризация (не меньше, чем сегодня у нас), вызывавшая разочарование в либеральных теориях и сладкую мечту об обществе всеобщего имущественного равенства. Потом Ленину пришла в голову «счастливая» мысль: революцию можно начать не обязательно в более развитых странах Запада (как полагал Маркс), а в той же России, благо в ней переплелся тугой узел социальных и политических проблем. Собственно Россию Ленин свысока презирал, подобно тем же либералам (в его дореволюционных статьях здесь и там сквозит: «наша азиатчина»), но посчитал удобной стартовой площадкой для всемирной революции. Однако с всемирной революцией вышла незадача. И, поняв, что она отодвигается в неопределенное будущее, Сталин уже в 30-е годы совершил новый поворот в коммунистической идеологии, соединив ее с новой интерпретацией патриотизма. И основание солидное нашлось: русский народ открыл миру светлую эру коммунизма. Когда же западный капитализм трансформировался до современного благополучия (и вовсе не сам по себе: именно ужас перед маячившей перспективой распространения советского коммунизма заставил верхи западного общества пойти на кардинальные реформы) и стало ясно, что революции там не будет никогда, – когда СССР рухнул, но декларированный властью "новый капитализм" привел трану к глубочайшему кризису, – тогда среди коммунистов окончательно восторжествовала идея, что их путь – это именно не международный, а национальный русский путь. Неувязка в одном: если это был такой замечательный путь, то почему так плачевно закончился? На это у них грамотного ответа нет, все сводят к бездарности поздних руководителей – то есть отдельно взятых личностей, противореча собственной теории «объективной исторической логики», – да к коварным проискам Запада.
На сегодняшний день их схема истории России выглядит так. Россию дореволюционную они, в полном согласии с либералами, изображают страной отсталой и предводимой реакционным режимом. Хотя, в отличие от них, со времен Сталина допускают оговорки: признают наличие ряда славных страниц в ее истории, в основном связанных с военными победами, а также научными открытиями и культурой. Ведь надо как-то поддерживать патриотизм! Хотя получается не вполне логично: народ был талантливый и замечательный, полководцы-самородки исключительные, а верхушка – тотально реакционной и паразитической. Чтобы как-то сгладить бьющее в глаза противоречие, они делают оговорку: не всегда, мол, реакционной, долгое время даже весьма прогрессивной (особенно такие фигуры, как Иван Грозный и Петр), но к XIX веку «изжила себя» и стала тормозить развитие. Хотя с этим не очень вяжется факт, что именно XIX век стал временем наибольшего внешнеполитического взлета Российской империи. «Освободительное движение» они, как и либералы, изображают героической страницей в истории, но в своей интерпретации. С одной стороны, даже преувеличивают его роль: дескать, именно под угрозой революции (когда на деле ею еще и не пахло) самодержавие было вынуждено проводить все реформы, начиная с отмены крепостного права. С другой стороны, прославляя революционеров (от декабристов и народников до самих себя), бичуют «трусливых либералов» и тех позднейших революционеров, которые были оппонентами их самих (вроде эсеров и меньшевиков), как «соглашателей», путавших мозги народу и пытавшихся увести его не туда, куда надо. Начиная же с Октября 1917-го, история России стала исключительно замечательной и героической: весь мир «умыли», народ освободили от «гнета», построили прекрасный социализм (не беда, что при этом истребили миллионы людей – так на то и «классовая борьба», ведь злобные «буржуи» сами не желали подчиниться и отдавать добром кровную собственность). Благодаря этому социализму победили Гитлера (хотя тогда по логике выходит, что и Наполеона сокрушили благодаря монархии?), добились небывалых высот в индустриализации и первыми слетали в космос. Но затем, по вине оказавшихся у власти после Сталина случайных людей (прежде всего Хрущева, а затем Горбачева), система начала разрушаться (что ж так? где же «логика истории»?), чем не замедлили воспользоваться западные империалисты, которые помогли ее уничтожить, разрушить великую державу и навязать стране «антинародный марионеточный режим». Вот, собственно, и все. Это – официальная версия сегодняшней КПРФ.
Немножко особняком, но рядышком с коммунистической мифологией стоит ныне практически увядшая, а в 60–80-е годы очень популярная среди интеллигенции мифология социал-демократическая (последний из могикан в ряду ее представителей – Рой Медведев). В массовое сознание ее внедряли партийные горе-реформаторы Хрущев, а затем Горбачев. Принципиальные разногласия с мифами образца Сталина–Зюганова у них начинались с момента, когда история доходила до Сталина. Дескать, сама идея социализма была замечательной, а Ленин – гением, начавшим строить «демократический рыночный социализм» в форме НЭПа (при этом, в отличие от «классических» коммунистов, "шестидесятники" безо всяких оснований уверяли, будто Ленин видел в НЭПе не временную меру, а «магистральный путь» развития страны). Оговоримся: к идее «рыночного социализма» они сами пришли не сразу, Хрущев сам был коммунистом еще радикальнее Сталина (по экономическим «реформам») и ограничивался развенчанием его репрессий и культа (хотя сам не дотягивал ему и до пояса). Потом пришел эдакий коварный, аморальный, «бездарный», но ловкий «интриган» Сталин (если такой бездарный, как же обошел таких замечательных «рыночников», как тот же Бухарин?) и все испортил. Построил вместо светлого демократического социализма (это когда же он был «демократическим», при Ленине, что ли?!) безобразный казарменный тоталитаризм, и отсюда пошли все последующие беды.
Породили эту мифологию недобитые конкуренты Сталина в борьбе за власть, освободившиеся из концлагерей в 50-е годы троцкисты и прочие ошметки «ленинской гвардии». Вымещая зло на покойном, себя они изображали эдакими романтическими героями революции, а его – узурпировавшим власть кровавым и бессовестным тираном. Умалчивая при этом о собственных злодеяниях в годы революции и гражданской войны (по аналогии с якобинской Францией, 37-й год был неизбежным следствием революции, и террор был бы при любом из конкурентов, кто пришел бы к власти в тех условиях). Басню эту подхватил Хрущев, желая «самоутвердиться» и возвыситься наиболее дешевым из возможных путей – с помощью сенсационного разоблачения предшественника. А потом ее уже «развили» до мифа о рыночной демократии НЭПа «умеренные» (не решавшиеся рвать с ленинизмом) диссиденты 60-х годов и в таком виде заимствовал Горбачев. Эта мифология была наиболее слабой и мало убедительной, и держалась лишь за счет отсутствия подлинной информации о Ленине и «ленинцах». Стоило ей открыться в эпоху «перестройки», как миф был развеян. Сегодня его еще придерживаются лишь одинокие постаревшие в заблуждениях «шестидесятники». Но на книжном рынке и в библиотеках еще частенько попадаются их публикации позднейшего образца конца 80-х.
С другого бока угнездилась мифология черносотенная, возродившаяся в 90-е годы как реакция на распад СССР и национальное унижение России. Как и все молодые идеологии, она достаточно агрессивна. Новые черносотенцы, напротив, прославляют и идеализируют дореволюционную историю России. С современными коммунистами они сходятся в апологии имперских традиций, но осуждают их советскую трансформацию, когда Россия сама стала "донором" национальных окраин. В сущности, их идеология базируется на старой николаевской триаде «православия, самодержавия и народности». Правда, православие у них получается какое-то агрессивное, нетерпимое ко всем остальным. Объяснение причин революции у черносотенцев похоже на то, как коммунисты объясняют причины краха СССР. С некоторыми нюансами: лично Николая II они не трогают (поскольку это противоречит монархическому сознанию), напротив, без конца эксплуатируют историю убийства его семьи. А винят во всем тот же коварный Запад, испокон веков ненавидящий Россию (а собственно, за что? если из зависти, то почему тогда больше всех остальных конкурентов?) и стремившийся развалить ее и уничтожить как единое государство. И сегодня к ставшей уже традиционной, отработанной версии об организации революции на немецкие деньги добавляют новую: не только на немецкие, но и на деньги спецслужб союзных России стран Антанты, что выглядит уже вовсе дико. А верховодили всем европейские и американские финансовые олигархи еврейской национальности, создавшие тайное «жидомасонское мировое правительство». Пришедшие к власти жидомасоны-большевики стали сатанински разрушать все, что свято русскому человеку, и победили благодаря расколу антибольшевицких сил и все тем же еврейским деньгам. Но потом Сталин, не входивший в жидомасонскую сеть и после прихода к власти разогнавший ее сумел освободиться от злокозненного влияния, возродить великую империю и победить Гитлера. Однако, оставаясь в плену идеи коммунизма, не довел дело до конца и был отравлен разложившимися партийными соратниками, желавшими бесконтрольно грабить русский народ . Этим не замедлил воспользоваться коварный американо-еврейский капитал и начал разлагать Россию изнутри, опять, как и до революции, вербуя "агентов влияния". Итогом стали «перестройка», развал державы и «марионеточный антинародный режим». Таким образом, если в начале своей мифологии черносотенцы полярно расходятся с коммунистами, то под конец целиком сходятся (либералы наоборот: сходятся с коммунистами в начале и расходятся под конец, лишь либералы с черносотенцами не пересекаются никак).
И, наконец, мифология славянофильская, то есть патриотическая и при этом умеренно либеральная. Её представители значительно более адекватны и разумны, но и они в пылу полемики создают удобные для себя мифы. Они не столь фантастичны, как у искателей «демонов мировой закулисы», и не столь лживы, как у либералов-западников, но и в них немало ложного. Общая канва их рассуждений выглядит так. Россия сформировалась как страна с самобытным и неповторимым укладом, шла своим путем и плодотворно развивалась, хотя этот процесс то и дело тормозился вынужденной борьбой с всевозможными агрессорами на востоке (от хазар до монголо-татар) и на западе (от крестоносцев до поляков и шведов). Впрочем, многие из них под влиянием модной концепции Л.Н. Гумилева отрицают самое монголо-татарское иго, утверждая о «взаимовыгодном союзе Руси и Орды» и стремясь подчеркнуть тем самым большую культурную близость России к Востоку, нежели к Западу, что ни в какие рамки не укладывается (в конце концов, Россия – страна христианская, и византийский след в ее культуре куда сильнее татарского). Со временем в ней сложились самобытные традиции народного самоуправления (излюбленные славянофилами Земские соборы и местные земства). Но, когда перед страной встала проблема экономической модернизации для завоевания выхода к морям, она была решена Петром I в ложном радикальном ключе, поскольку он не ограничился военными и умеренными экономическими реформами, а, с одной стороны, повел страну по ложному пути подражания Западу, ломая национальные традиции и устои, а с другой – принес благосостояние страны в жертву имперским амбициям и идее «окна в Европу», обеспечив военно-промышленный рывок жесточайшим бюрократическим деспотизмом и уничтожением всех ростков народного самоуправления (в этом отношении не случайны сравнения его со Сталиным). Заметим сразу, процессы усиления абсолютизма и закрепощения крестьян наблюдались не в одной России, а и в ряде стран Европы, да и в России они начались еще до Петра. Что же касается западничества, то его можно назвать «болезнью роста» многих молодых наций: не менее радикальная вестернизация форм быта и уклада жизни произошла в Турции при Ататюрке и в Иране при Реза-шахе (где сменилась спустя полвека новой волной исламизации). Хотя можно согласиться, что Петр придал своим преобразованиям порой излишне радикальный характер, но вряд ли это имело уж столь решающее значение. На мой взгляд, наиболее пагубное противоречие его реформ, сказавшееся столетие спустя – в том, что европеизация высших слоев общества не затронула массы народа, более того – в условиях тогдашней тенденции к укреплению сословного строя создала колоссальную пропасть (не только социальную, но и духовную) между элитой общества и народом. Это – действительно роковое обстоятельство, последствий которого, разумеется, не мог предвидеть сам Петр, и именно от него тянется первая ниточка к революции 1917 года. В этом славянофилы правы. Но это было не единственным.
Все последующие проблемы России, по мнению славянофилов, проистекают отсюда. К русским императорам XIX века они относятся в целом положительно, но сетуют на их неспособность преодолеть сопротивление реакционного класса бюрократии в деле реформ и на чрезмерное увлечение имперской внешней политикой с растрачиванием народных сил и не всегда в интересах России (пожалуй, этот упрек в большей степени применим все-таки к советскому периоду, хотя и в прежние времена случалось всякое. Но славянофилы опять же преувеличивают. Если на то пошло, внешняя политика царской России была не более обременительной для страны, чем у других великих держав, за исключением Англии. И уж никогда не была такой разорительной и гибельной для государства, как политика Швеции при Карле XII, Пруссии при Фридрихе, Франции при Наполеоне, Германии при Вильгельме и при Гитлере). И русская бюрократия была не более реакционной, чем немецкая или австрийская. Все это в большей степени надуманные причины.
А далее – совсем без логики. Превознося экономическое процветание России после реформ Александра II и Столыпина, они объясняют революцию 1917 года опять же банальным масонским заговором большевиков на немецкие деньги (против Запада они не столь озлоблены, как черносотенцы, но роль американских евреев признают). Господа, да не слишком ли много чести всем этим масонам, спецслужбам и евреям?! Разве что им надо для этого всем миром объединиться, чего никогда не бывало. Согласен, в международных отношениях нет места сантиментам, но чем уж Россия так насолила всему миру, что он спал и видел уничтожить ее? Вот где чистая фантастика! Славянофилы любят идеализировать белых (сам отчасти грешен) – и не видят подлинных причин их поражения в Гражданской войне. В оценке советского периода истории среди них нет единства – кто-то относится к нему однозначно негативно (подобно А. Солженицыну), кто-то – не столь категорично, отдавая предпочтение сталинской национальной политике и постепенному смягчению политического режима в позднесоветский период, осуждая ленинский период и весь террористический режим до смерти Сталина, экономический строй от начала до конца и планетарно-имперские амбиции времен «холодной войны». Непримиримость их к либералам-западникам (с которыми они когда-то выступали, во всяком случае, союзниками) резко возросла после распада СССР и ограбления страны гайдаро-чубайсовскими «реформами» (которые, впрочем, осуждают решительно все, и даже часть самих западников).
Каков винегрет мнений? И все они посредством предприимчивых публицистов с бойким пером обрастают сногсшибательными, уничтожающими одна другую версиями (в зависимости от того, какой ты себе имидж выбрал и кто тебе заплатит), где на 10 % фактов приходится 90 % сочной фантазии. И ведь если Дюма или Пикуль, фантазируя, не претендовали на подлинный историзм (каждый художник имеет право на домысел), то все нынешние опусы публикуются как «строго документальные». Как сказал один остряк: из ненаписанных стихов А.С. Пушкина. А в итоге писание истории превращается в обычную разновидность коммерческой деятельности.
Не случайно основная масса \\этих писаний (и писак) по-прежнему приковывает свой интерес к событиям ХХ века, то есть революции с предшествующей ей эпохой и советского периода. Русская революция изменила всю последующую историю не только России, но и всего мира в ХХ веке, как Французская революция изменила историю Европы на рубеже XVIII–XIX веков. Можно с полной уверенностью сказать, что без нее не было бы не только «холодной войны», но и Второй мировой (ибо кто позволил бы Гитлеру так усилиться, если бы не маниакальный страх коммунизма?). Не победил бы в стольких странах фашизм (ведь он был прежде всего реакцией на коммунистические идеи). Наконец, Россия не выпала бы из круга цивилизованных стран мира – а выпала она не на 70 лет, а дай Бог, чтобы не н а в с е г д а, – не была бы окружена всеобщей враждебностью, не прошла бы через такой ад кровавых, мучительных и исключающих друг друга событий.

 QR-код на столе: как сократить время расчёта и повысить комфорт гостей
QR-код на столе: как сократить время расчёта и повысить комфорт гостей  про самозанятость
про самозанятость  Эти лютики...
Эти лютики...  Деменция: тесты, которые используют для диагностики, часть вторая
Деменция: тесты, которые используют для диагностики, часть вторая  ПУШКИН КАК РУССКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
ПУШКИН КАК РУССКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 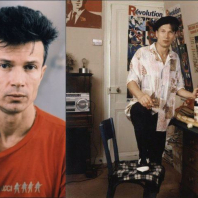 Лимонов как пророк :)
Лимонов как пророк :) 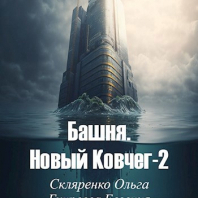 Право на второй шанс
Право на второй шанс  Как и когда внедрялась сказка о первопечатнике Иване Федорове и "Апостоле" 1564
Как и когда внедрялась сказка о первопечатнике Иване Федорове и "Апостоле" 1564  Толпа убила подростка-мигранта за изнасилование девочек
Толпа убила подростка-мигранта за изнасилование девочек