Дмитрий Быков + Андрей Гамалов // "Столица", №46(208), ноябрь 1994 года
 ru_bykov — 27.02.2018
ru_bykov — 27.02.2018
 проза
прозаВ гостях у Кафки
Молодого московского прозаика Андрея Гамалова успели заметить по его первым коротким рассказам, которые нигде не печатались, но широко обсуждались в окололитературной среде, тогда еще существовавшей. В 1992 году Гамалов уехал в США, не опубликовав на Родине ни строчки, — уехал не потому, что обиделся, а потому, что женился на американке. Долго о нем не было никаких известий, кроме того, что он забросил прозу и занялся каким-то мелким бизнесом. Однако несколько месяцев назад из Штатов пришла его новая подборка под общим названием «В гостях у Кафки». Может быть, и к лучшему, что первая публикация тридцатилетнего новеллиста в России — именно эти короткие, сухие и жутковатые фрагменты из предлагаемой подборки.
Д.Б.
Михайлов стоит около метро и просит подаяния. Ему подают скупо, потому что молодой, здоровый и прилично одетый мужик не вызывает сострадания. Но после того, что произошло, он не может устроиться ни на какую работу — иногда, правда, его берут грузчиком, но это заработок на ночь, на две, не больше. Михайлов хочет накопить тысяч шесть, чтобы купить яблок любимой. Любимая будет ждать его в полседьмого около Университета. Михайлов стоит и думает о том, что, подавая нищим, он всегда пытался представить себя на их месте и хотел угадать, о чем будет думать тогда. Думает он, как ни странно, о вполне отвлеченных вещах: например, о том, почему жанр антиутопии так прижился в литературе. Видимо, потому, догадывается Михайлов, что сама человеческая жизнь строится по принципу антиутопии: обещают Бог весть что, а остаешься ни с чем. Дальше он запрещает себе думать, добирает шесть тысяч, покупает яблоки и идет к Университету. Любимая, само собой, не пришла. Он к этому отчасти готов: она в последнее время часто не приходит. После того, что произошло, это объяснимо.
Потом он идет домой. Свою двухкомнатную квартиру он поделил: комнату сдает тем, кому теперь все можно. Они постепенно вытесняют его и из той, меньшей комнаты, которую он оставил себе. У него давно голо: он распродал всю мебель. Он замечает, что давно живет простыми вещами: что поесть завтра, у кого занять до послезавтра. О сложных и отвлеченных вещах он думает все меньше. Неожиданно ему звонит приятель и просит разрешения зайти. Михайлов впускает его. Тот осматривается и боится слежки. После того, что случилось, он всего боится. А что, собственно, случилось? — пытаются они вместе понять. Приятель утверждает, что к власти пришли эти. Если бы к власти пришли эти, резонно возражает Михайлов, давно бы закрылись все коммерческие киоски, а они вон открыты как милые. И вообще все без изменений, только его и таких, как он, не берут никуда работать, и вообще они больше никому не интересны. А может, говорит Михайлов, окончательно победили те? Господь с тобой, осаживает его приятель, перед теми-то мы ни в чем не виноваты!
Ты что, был против рынка? Нет, говорит Михайлов, не против. Просто теперь мы стали не нужны. Приятель ночует у него и утром, так же озираясь, уходит.
Утром Михайлов в очередной раз пытается устроиться на работу. Его нигде не берут, не объясняя причин. После того, что произошло, мягко намекают ему, вы уже не можете работать по специальности. А что такого произошло, недоумевает Михайлов в открытую. А вы в зеркало посмотрите, говорят ему. Он смотрит и, ничего не понимая, уходит. Потом звонит любимой. Она говорит, что лучше им пока не видеться.
В трамвае он замечает, что на него слишком уж пристально смотрит один из пассажиров. Михайлов начинает бояться слежки. Он долго опасается «хвоста», кружит по городу, покупает на последние копейки воблу, с какими-то мужиками ест ее в пивняке. Он чувствует, что неумолимо опускается на дно, и та сила, которая раньше его удерживала от падения, оставила его. Теперь его прямо-таки тянет ко дну, и никто ничего не делает, чтобы его остановить. У него нет больше сил сопротивляться. Домой идти он боится: соседи, кажется, готовы выставить его на улицу. Вступаться больше некому. Ему пора скрываться, как и его приятелю, который давно уже не ночует дома и скитается по знакомым.
Михайлов идет на вокзал, садится в электричку и куда-то едет. Ему неважно, куда. Теперь он будет только прятаться. Он так и не поймет никогда самую простую вещь: то, что случилось, — случилось с ним, а такие, как он, те, кого он считает своими, — на самом деле просто те, с кем это тоже случилось. Просто прошло в его жизни время, когда он мог кому-то быть нужен и интересен. Никто уже ничего не ждет от него. Прошел тот возраст. Он вступил в новую полосу жизни. А больше ничего не случилось.
Сергеев пятые сутки шел из Днепропетровска в Киев. Под ногами хрустела сухая, посоленная заморозком стерня. За горизонтом стояло зарево — горели деревни. Сергеев остался один, хотя после того первого боя их уцелело трое. Один был ранен и во время ночлега в голом перелеске уполз куда-то, чтобы им не тащить его дальше. Другой, толстый тридцатипятилетний отец семейства, который все рассказывал о своей семье, полез в заброшенный сад за яблоками, и его застрелил сумасшедший старик-сторож.
Сергеева призвали из Москвы, куда-то повезли, с кем воевали — было непонятно. Одно было ясно — случилось то, чего все ждали. В первом же бою их батальон разбили, и он решил возвращаться в Киев, а оттуда добираться в Москву, к семье. Несколько раз он натыкался на чужие наряды, один почему-то был конный. Тогда он отлеживался в оврагах. По железной дороге, которой он старался держаться, проползали длинные, наглухо забитые поезда. Сергеев подбирал кукурузные початки на пустых полях, выкапывал промерзшую свеклу и репу на разоренных огородах, попадалась картошка, хотя ее почти всю вырыли проходившие тут до него. У него еще была банка тушенки.
На шестую ночь, когда он сидел у костра, послышались глухие шаги. Сергеев схватился за автомат. Из тьмы выступил мужик в белой рубахе до колен. Его огромные, длинные обезьяньи руки низко болтались, спина была согнута, лицо было монголоидное, треугольное, желтое. «К огоньку бы, землячок, не стреляй, землячок», — пробормотал мужик. Сергеев обрадовался живой душе, усадил его к огню и стал расспрашивать. Мужик был явным идиотом — только бормотал невнятно: «Этово того, землячок... к огоньку... а коли так, то вон как...» Сергеев отчаялся чего-то добиться от него и заснул. Утром мужика не было. Он, верно, ушел куда-то в степь ночью. Весь следующий день Сергеев снова шел один. Мимо него по рельсам в сторону Днепропетровска прогрохотал пустой вагон без паровоза.
Ночью попутчик явился опять — откуда, Сергеев не понял. Он снова выступил из тьмы со своим протяжным шепотом «Не стреляй, земляк». Сергеев хотел в ту ночь открыть тушенку, потому что сильно ослаб, но при мужике не стал — ему не хотелось делиться с идиотом. Идиот покачивался, сидя у огня, что-то тягуче бормотал, но Сергеев не разбирал слов. Утром Сергеев проснулся от того, что мужик вяло пытался отнять у него автомат, дергая за приклад. Сергеев вскочил на ноги. «Не стреляй, земляк», — бормотал мужик. Сергеев избил его и бросил валяться в степи. В тот день внезапно кончились рельсы. Они просто обрывались в траве, и дальше пришлось идти по бледному, маленькому солнцу.
Когда на следующую ночь из темноты опять выступил мужик, Сергеев хотел выстрелить в него, но не смог. Он подскочил к нему и стал бить в мотающееся, желтое, треугольное лицо. «Кто ты? Откуда? Что ко мне привязался? Куда мне идти? Где я?» — кричал Сергеев, но попутчик только тупо мотался перед ним, оседал, бормотал что-то, и кровь капала на его рубаху. Потом он на карачках уполз в темноту. Весь следующий день Сергеев шел один, но ввечеру, на болезненно-красном закате, дошел до озера. Никакого озера тут прежде не было и быть не могло — Сергеев держался исчезнувшей железной дороги, — но теперь оно разливалось прямо на его пути. По ослизлому берегу карабкались кусты, в воде торчали полусгнившие вешки. Сергеев пошел вдоль берега, зная уже, что никуда не придет. Ночью он развел костер от последней спички. Из тьмы выступило желтое лицо. «Не стреляй, земляк», — протянул попутчик.
У Петрова есть жена, маленький сын, любимая работа. В один прекрасный день его внезапно вызывают в ГБ. Он долго сидит у двери назначенного кабинета. Оттуда выходит мрачный бородатый человек, прижимающий к груди толстую папку. На миг он останавливается перед Петровым, долго в него вглядывается, потом почти бегом устремляется наружу. Петров с потными руками заходит в кабинет. Усталый бесцветный следователь говорит ему, что отдел, который занимался делом Петрова и двадцати других граждан, расформировывается. Все, кто ими занимался, уже уволены. Сказать, зачем и почему их так долго «вели», следователь не уполномочен, да и не может. Распоряжением сверху велено отдать им на руки их личные дела.
Петров получает толстую папку и еще в транспорте, по дороге домой, начинает ее изучать. Он не помнит за собой никакого греха и никогда не замечал слежки. Из папки он с ужасом узнает, что вся его жизнь была результатом чуждой направленной деятельности. Жену ему подсунули — оказывается, то знакомство на вечеринке у приятеля было не случайно. Она ничего не знала — просто приятеля звонком попросили пригласить Петрова, и расчет оправдался: он влюбился. Приятель был в самом деле дальний, Петров, помнится, еще удивился приглашению, но делать в тот вечер было нечего, он пошел и потом три года благодарил судьбу. Сам приятель давно в Штатах, следы потеряны, его ни о чем теперь не спросишь. На работу, оказывается, Петрова тоже взяли по звонку оттуда — могли и не взять. Больше того, даже в институт его устраивали по протекции, о которой, конечно, он и близко не догадывался. Повышение по службе проистекало из того же источника. Наконец, даже сын его родился не просто так — жена собиралась делать аборт, но врач по секретному приказу ей отказал, припугнув последствиями. Короче, механизм запущен, а зачем — теперь неизвестно. Кто такие «двадцать других граждан», которых зачем-то вели вместе с ним, следователь, конечно, не скажет ему. Петров ничего не говорит жене и начинает ходить по инстанциям. Ему везде отвечают, что отдел расформирован и никто теперь ничего не знает.
Петров понимает, что прожил, в сущности, не свою жизнь, и решает прожить свою. Он рвет с женой, оставляет сына, меняет место работы, переезжает на другую квартиру, которую снимает на последние гроши. Постепенно вся его нынешняя жизнь тоже начинает казаться ему подстроенной. Например, он заходит в магазин, где ему надо купить картошки, и понимает, что это тоже дело чьих-то рук, — в результате бежит из магазина и идет в другой, куда ему совершенно не надо. Так он начинает жить от противного, надеясь сломать этот железный, неостановимый план, преодолеть детерминированность всех своих действий. Эго совершенно ломает всю его жизнь, но тот хаос, который образуется в результате, и кажется ему его собственной судьбой, страшной, зато своей и неповторимой. Он влюбляется в девушку, которая пытается вернуть его к норме, к упорядоченному существованию. Потом рвет и с ней, ибо догадывается, что ее тоже подослали. Ему на память приходит тот герой Паустовского, который после концлагеря сошел с ума и настаивал, чтобы все ставили тапочки на ночь не носами к кровати, а наоборот, потому что таким образом, этой ничтожной деталью, может быть разрушен некий глобальный план вредителей. Петров совершенно доламывает свою жизнь и уезжает в другой город.
По дороге в другой город — в междугородном автобусе, идущем среди черных полей, — ему начинает казаться, что и это путешествие подстроено. Всякое путешествие, имеющее некий конечный пункт назначения, уже выглядит организованным извне, частью плана. Надо сойти по дороге. Петров сходит в глухую, густую осеннюю ночь, долго идет, спотыкаясь, по мокрому полю, приходит в полуразрушенную деревню. В единственной уцелевшей избушке горит огонек. Он входит. Там старуха прядет бесконечную пряжу и прет бесконечную песню. Она кивает Петрову, не прерывая своих занятий. Он садится в угол и ловит на себе чей-то тревожный взгляд. В другом углу, в полумраке, он различает того мрачного бородача, который вышел от следователя прямо перед ним. Бородача тоже привело сюда. Они сидят и смотрят друг на друга.

 Volkswagen Teramont X: инженерное совершенство в кузове внедорожника
Volkswagen Teramont X: инженерное совершенство в кузове внедорожника  тур де Ясное'25, ч.1
тур де Ясное'25, ч.1  Морская доставка не прошла
Морская доставка не прошла  Крючкотворы хреновы
Крючкотворы хреновы  "Пари Сен-Жермен" - победитель Лиги Чемпионов 2025
"Пари Сен-Жермен" - победитель Лиги Чемпионов 2025  Последний день школы.
Последний день школы.  Про посещение нетуристической Грузии
Про посещение нетуристической Грузии 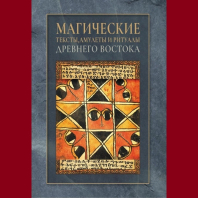 Магические тексты, амулеты и ритуалы Древнего Востока в избранных трудах Б.А.
Магические тексты, амулеты и ритуалы Древнего Востока в избранных трудах Б.А.  Ожиданье, нетерпенье
Ожиданье, нетерпенье 



