Демистификация Гегеля
 evgeniy-kond — 16.01.2025
Второй заход, через 15 лет. Мой текст простым шрифтом, пересказ
нейросети (Яндекс) - курсивом, исходный текст - в цитатах.
evgeniy-kond — 16.01.2025
Второй заход, через 15 лет. Мой текст простым шрифтом, пересказ
нейросети (Яндекс) - курсивом, исходный текст - в цитатах.Антиномии Канта:
Под скачком здесь подразумевается изменение, которые происходит без промежуточных стадий, в то время как постепенное изменение в количестве происходит через промежуточные этапы.
Но космология рассматривала этот свой предмет не как некоторое конкретное целое, а лишь согласно абстрактным определениям. Так, например, здесь рассматривались вопросы, господствует ли в мире случайность или необходимость, извечен ли мир, или сотворен? Эта дисциплина интересовалась затем, главным образом установлением так называемых всеобщих космологических законов вроде, например того закона, что в природе нет скачков. Скачок означает здесь качественное различие и качественное изменение, которые являются неопосредствованными, между тем как (количественное) постепенное изменение представляется чем-то опосредствованным.
Наше понимание пространства противоречиво: конкретное пространство нашей деятельности ограничено, но мы можем выйти за его границы. Так же совпадают (загрязнены друг другом) истинная свобода и необходимость, но мы понимаем лишь их чистые (идеальные) моменты (или—или).
Так, например, в первой из вышеуказанных космологических антиномий содержится та мысль, что пространство и время должны рассматриваться не только как непрерывные, но так же и как прерывные, между тем как, напротив, в прежней метафизике останавливались на одной лишь непрерывности, и согласно этому мир рассматривался как неограниченный в пространстве и времени. Совершенно правильно, что мы можем выходить за пределы каждого определенного пространства и каждого определенного времени, но не менее правильно и то, что пространство и время действительны лишь благодаря своей определенности (т. е. как здесь и теперь) и что эта определенность содержится в их понятии. Это применимо также и к остальным вышеуказанным антиномиям; так, например, это верно по отношению к антиномии между свободой и необходимостью, с которой дело обстоит при ближайшем рассмотрении так, что то, что рассудок понимает под свободой и необходимостью, представляет собою на самом деле лишь идеальные моменты истинной свободы и истинной необходимости, и обоим им в их оторванности друг от друга не присуща истина.
Но такого абстрактного или—или нигде нет, всё где-либо существующее есть некое конкретное и, следовательно, некое внутри самого себя различное и противоположное.
Необходимость часто называют жестокой. Это правильно, потому что она не даёт нам выбора.
Свобода в этой ситуации — это отказ от того, что у нас есть.
Но есть и другая сторона необходимости. Она становится свободой, когда мы понимаем, что всё в мире связано друг с другом. Тогда мы не отказываемся от чего-то, а соединяемся с этим.
Необходимость и свобода не исключают друг друга. Необходимость — это не свобода, но свобода невозможна без необходимости.
Нравственный человек понимает, что его деятельность важна и нужна. Это не ограничивает его свободу, а делает её настоящей.
Необходимость обыкновенно называют жестокой, и справедливо ее называют так, поскольку не идут дальше ее как таковой, т. е. не идут дальше ее непосредственного образа. Мы имеем здесь пред собою состояние или вообще некое содержание, которое обладает самостоятельным устойчивым существованием, и под необходимостью разумеют прежде всего то, что на такое содержание наступает некое другое содержание и губит первое. В этом-то и состоит жестокость и прискорбность непосредственной и абстрактной необходимости. Тожество этих двух содержаний, которые в необходимости представляются нам связанными друг с другом и поэтому теряют свою самостоятельность, есть пока лишь внутреннее тожество и еще не существует для тех, которые подчинены необходимости. Таким образом, свобода в этой стадии есть пока лишь абстрактная свобода, которую мы спасаем лишь посредством отказа от того, чем мы непосредственно являемся и чем мы обладаем. — Но, как мы видели в предшествующем, характер дальнейшего процесса необходимости таков, что благодаря ему преодолевается имеющаяся вначале неподатливая внешняя оболочка необходимости и открывается ее внутреннее ядро. Тогда обнаруживается, что связанные друг с другом существования на самом деле не чужды друг другу, а суть лишь моменты единого целого, каждый из которых в соотношении с другим остается у себя и соединяется с самим собою. Это — преображение необходимости в свободу, и эта свобода есть не только свобода абстрактного отрицания, но скорее конкретная и положительная свобода. Из этого мы можем также заключить, насколько превратно рассматривание свободы и необходимости как взаимно исключающих друг друга. Необходимость как таковая, правда, еще не есть свобода, но свобода имеет своей предпосылкой необходимость и содержит ее внутри себя как снятую. Нравственный человек сознает содержание своей деятельности чем-то необходимым, имеющим силу в себе и для себя, и этим так мало наносится ущерб его свободе, что последняя, даже наоборот, лишь благодаря этому сознанию становится действительной и содержательной свободой в отличие от произвола еще бессодержательной и лишь возможной свободы. Пусть наказываемый преступник рассматривает постигающее его наказание как ограничение своей свободы; на самом деле, однако, наказание не есть чуждая сила, которой его подчиняют, а лишь проявление его собственных деяний, и, признавая это, он ведет себя как свободный человек. Высшая самостоятельность человека состоит вообще в том, что он знает себя всецело определяемым абсолютной идеей;
Вопреки Гегелю, не противоречие движет миром, а движение рождает противоречия. Источник движения - разность потенциалов (в гравитационном или эл. поле), накопленное напряжение, которое разряжается с определенной энергией. На Земле этот источник - поток тепла от Солнца. Жизнь - преобразователь и накопитель этой энергии. Бесконечное накопление невозможно без перехода на качественно новый уровень. Острая необходимость такого перехода при достижении количественного предела ощущается как противоречие.
Противоречие — вот что на самом деле движет миром, и смешно говорить, что противоречие нельзя мыслить. Правильно в этом утверждении лишь то, что противоречием дело не может закончиться и что оно (противоречие) снимает себя само через себя. Но снятое противоречие не есть абстрактное тожество, ибо последнее само есть лишь одна сторона противоположности. Ближайший результат положенной как противоречие противоположности есть основание, которое содержит в себе, как снятые и низведенные лишь к идеальным моментам, и тожество, и различие.
Но вот для чего противоречие и впрямь является источником движения (развития) - так это для мышления, для сознания.
Для общества совершенно верен образ нагреваемого парового котла и поговорка "спустить пар". Пар можно спустить в свисток, котел может разорвать, или можно произвести полезную прогрессивную работу. Полное разрешение противоречий было бы тепловой смертью. В политике к этому направлена деятельность консерваторов и реакционеров, мечтающих остановить движение или обратить вспять.
Подобно прочим противоположностям, сходятся и конечная и бесконечной цели, сходятся в бессмысленности. Бессмысленна бесконечная деятельность ради отдаленной цели ("Движение - всё") - она подобна ослику, идущему за подвешенной морковкой. Но и достижение окончательной цели убивает волю, смысл жизни.
Конечность этой деятельности заключается поэтому в том противоречии, что в противоречащих себе определениях объективного мира цель добра столь же осуществляется, сколь и не осуществляется, что эта цель столь же полагается как существенная, сколь и полагается как несущественная, что она одновременно полагается и как действительная и как лишь возможная. Это противоречие принимает вид бесконечного прогресса осуществления добра, и в этом бесконечном прогрессе добро фиксировано лишь как некое долженствование.
В то время как интеллект старается лишь брать мир, каков он есть, воля, напротив, стремится к тому, чтобы теперь только сделать мир тем, чем он должен быть. Непосредственное, преднайденное признается волей не прочным бытием, а лишь видимостью, чем-то ничтожным в себе. Здесь выступают те противоречия, в которых безвыходно вертятся, когда стоят на точке зрения моральности. В практическом отношении это вообще—точка зрения кантовской философии и остается еще точкой зрения также и фихтевской философии. Добро, с точки зрения этих систем, должно быть осуществлено; мы должны работать над его осуществлением, и воля есть лишь деятельное добро.
Но если бы мир был таким, каким он должен быть [если бы добро осуществилось], то отпадала бы, как лишняя, деятельность воли. Сама воля, следовательно, требует, чтобы ее цель также и не осуществилась. Конечность воли правильно выражена в этом утверждении. Но мы не должны остановиться на этой конечности, и процесс воли сам снимает эту конечность и содержащееся в ней противоречие
Решение в циклическом, итеративном процессе: промежуточный результат теоретически переосмысляется и определяется новая цель.
Примирение состоит в том, что воля в своем результате возвращается к предпосылке познания, возвращается, следовательно, в единство теоретической и практической идеи.
Но Гегель на этом не останавливается, а излагает свою ид. концепцию, что в сущности мира лежит идея (понятие, мировой дух, абсолютное добро), которое и должен познать разум, а воля принять его цели.
Воля познает цель как свою, и интеллект понимает мир как действительное понятие. Это — подлинная позиция разумного познания. Ничтожное и исчезающее представляет собою лишь поверхность мира, а не его подлинную сущность. Подлинную сущность мира составляет в себе и для себя сущее понятие, и мир, таким образом, сам есть идея. Неудовлетворенное стремление исчезает, когда мы познаем, что конечная цель мира столь же осуществлена, сколь и вечно осуществляется. Это вообще — позиция зрелого мужа, между тем как юношество полагает, что мир весь лежит во зле и нужно сначала сделать из него совершенно другой мир.
В рамках конечного мы не можем испытать или видеть подлинного достижения цели. Осуществление бесконечной цели состоит, поэтому, лишь в снятии иллюзии, будто она еще не осуществлена. Добро, абсолютное добро, осуществляется вечно в мире, и результатом этого является то, что оно давно само по себе осуществлено и ему не приходится ждать нас, чтобы мы его осуществили. В этой иллюзии мы живем, и вместе с тем только она является побуждением к деятельности, она одна заставляет нас интересоваться миром. Идея в своем процессе сама создает себе эту иллюзию, противопоставляет себе нечто другое, и ее деятельность состоит в снятии этой иллюзии.
|
|
</> |

 Надёжная внутренняя связь на предприятии: всё о VoIP-шлюзах, IP-телефонах и АТС МиниКом
Надёжная внутренняя связь на предприятии: всё о VoIP-шлюзах, IP-телефонах и АТС МиниКом  Зефирантес
Зефирантес 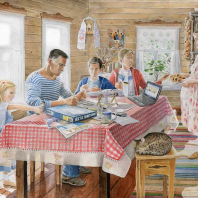 Главная причина деградации демографии, или Цитата дня
Главная причина деградации демографии, или Цитата дня  Момидзи - кленовые листья каэдэ
Момидзи - кленовые листья каэдэ  Баклажаны с курицей
Баклажаны с курицей 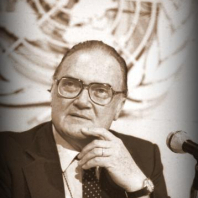 Мюллер нашего городка
Мюллер нашего городка  «Это пиратство, а пиратов уничтожают»
«Это пиратство, а пиратов уничтожают»  Александр Дейнека. Гимн жизни
Александр Дейнека. Гимн жизни  Утренний глоток поэзии
Утренний глоток поэзии 



