Безумие 1917 года глазами художника Константина Коровина
 fluffyduck2 — 10.05.2021
Константин Алексеевич Коровин в своем дневнике очень ёмко, точно и
красочно описал виденные им эпизоды "окаянных дней" 1917 года. В
1922 году Константин Коровин эмигрировал. В своих мемуарах он
пытался понять причины русской катастрофы и сделал несколько
интересных наблюдений.
fluffyduck2 — 10.05.2021
Константин Алексеевич Коровин в своем дневнике очень ёмко, точно и
красочно описал виденные им эпизоды "окаянных дней" 1917 года. В
1922 году Константин Коровин эмигрировал. В своих мемуарах он
пытался понять причины русской катастрофы и сделал несколько
интересных наблюдений.
К.А. Коровин. "Революция"
* * *
Во время русской смуты я слышал от солдат и вооруженных рабочих одну и ту же фразу: «Бей, все ломай. Потом еще лучше построим!»
* * *
Странно тоже, что в бунте бунтующие были враждебны ко всему, а особенно к хозяину, купцу, барину, и в то же время сами тут же торговали и хотели походить на хозяина, купца и одеться барином.
* * *
Весь русский бунт был против власти, людей распоряжающихся, начальствующих, но бунтующие люди были полны любоначалия; такого начальствующего тона, такой надменности я никогда не слыхал и не видал в другое время. Это было какое-то сладострастие начальствовать и только начальствовать.
* * *
Странно то, что среди русских людей есть особенности отрадных вожделений души, радости и как бы самой большой и торжественной победы; как бы какие-то заключения важного дела, как бы служение чему-то нужному и высокому. Это есть желание сделать какую-либо особенную пакость счастью, успеху, удаче своему собрату, русскому же. Эта таинственная черта души русского мне, тоже русскому, совершенно не была понятна. И эту черту можно проследить в отношении друг к другу среди писателей и нашей критики.
* * *
Что бы кто ни говорил, а говорили очень много, нельзя было сказать никому, что то, что он говорит, неверно. Сказать этого было нельзя. Надо было говорить: «Да, верно». Говорить «нет» было нельзя — смерть. И эти люди через каждое слово говорили: «Свобода». Как странно.
* * *
Ученики Школы живописи постоянно митинговали, с утра до глубокой ночи. Они реформировали Школу. Реформа заключалась в выборе старост и устройстве столовой (которая была ранее, но называлась буфет). Странно было видеть, когда подавали в столовой какую-то соленую воду с плавающими в ней маленькими кусочками гнилой воблы. Но при этом точно соблюдался черед, кому служить, и старосты были важны, распоряжались ловко и с достоинством, как важные метрдотели.
* * *
Когда я ехал на извозчике, которых уж было мало, то он, обернувшись, сказал мне: «Слобода-то хороша, но вот когда в кучу деньги все сложат и зачнут делить, тут драки бы не вышло. Вот что». А я спросил его, а давно он в Москве возит. «Лет сорок», — ответил он.
* * *
При обыске у моего знакомого нашли бутылку водки. Ее схватили и кричали на него: «За это, товарищ, к стенке поставим». И тут же стали ее распивать. Но оказалась в бутылке вода. Какая разразилась брань… Власти так озлились, что арестовали знакомого и увезли. Он что-то долго просидел.
* * *
Учительницы сельской школы под Москвой, в Листвянах, взяли себе мебель и постели из дачи, принадлежавшей профессору Московского университета. Когда тот заспорил и получил мандат на возвращение мебели, то учительницы визжали от злости. Кричали: «Мы ведь народные учительницы. На кой нам черт эти профессора. Они буржуи».
* * *
Я спросил одного умного комиссара: «А кто такой буржуй, по-вашему?» Он ответил: «Кто чисто одет».
* * *
На рынке в углу Сухаревой площади лежала огромная куча книг, и их продавал какой-то солдат. Стоял парень и смотрел на кучу книг.
— Купи вот Пушкина.
— А чего это?
— Сочинитель первый сорт.
— А чего, а косить он умел?
— Не-ет… чего косить… Сочинитель.
— Так на кой он мне ляд.
— А вот тебе Толстой. Этот, брат, пахал, косил… чего хочешь.
Парень купил три книги и, отойдя, вырвал лист для раскурки.
* * *
Были дома с балконами. Ужасно не нравилось проходящим, если кто-нибудь выходил на балкон. Поглядывали, останавливались и ругались. Не нравилось. Но мне один знакомый сказал:
— Да, балконы не нравятся. Это ничего — выйти, еще не так сердятся. А вот что совершенно невозможно: выйти на балкон, взять стакан чаю, сесть и начать пить. Этого никто выдержать не может. Летят камни, убьют.
* * *
Больше всего любили делать обыски. Хорошее дело, и украсть можно кое-что при обыске. Вид был у всех важный, деловой, серьезный. Но если находили съестное, то тотчас же ели и уже добрее говорили:
— Нельзя же, товарищ, сверх нормы продукт держать. Понимать надо. Жрать любите боле других.
* * *
— В Дубровицах-то барыню, старуху восьмидесяти лет, зарезали. За махонькие серебряные часики. Генеральша она была.
— Что ж, поймали преступника? — спросил я.
— Нет, чего, ведь она енеральша была. За ее ответа-то ведь нет.
* * *
Один мой родственник, кончивший университет, юридический факультет, горел деятельностью. Он целый день распоряжался, сердился, кричал, был важен и строг. Он знал все, говорил без устали. «Я начальник домового комитета», — кричал он. И тут же он себе завел артистку, называя ее Лидия Павловна. Относился к ней почтительно, часто говоря: «Лидия Павловна этого желают». Потом украл у меня деньги и кстати чемодан с платьем. Управляя домовым комитетом, неустанно распоряжался, так что живущий там доктор Певзнер от него слег в постель и прочие жильцы плакали и, наконец, выгнали его с большим трудом. Теперь он коммунист.
* * *
После митинга в Большом театре, где была масса артистов и всякого народа, причастных к театру, уборная при ложах так называемых министерских и ложи директора, в которых стены были покрыты красным штофом, по окончании митинга были все загажены пятнами испражнений, замазаны пальцами.
* * *
Власть на местах. Один латыш, бывший садовник-агроном, был комиссар в Переяславле. По фамилии Штюрме. Говорил мне: «На днях я на одной мельнице нашел сорок тысяч денег у мельника». — «Где нашли?» — спросил я. — «В сундуке у него. Подумайте, какой жулик. Эксплуататор. Я у него деньги, конечно, реквизировал и купил себе мотоциклетку. Деньги народные ведь». — «Что же вы их не отдали тем, кого он эксплуатировал?» — сказал я. Он удивился — «Где же их найдешь. И кому отдашь. Это нельзя… запрещено… Это будет развращение народных масс. За это мы расстреливаем».
* * *
— Вы буржуазейного класса? — спросил меня комендант Ильин.
— Буржуазейного, — отвечаю я.
— Значит, элемент.
— Элемент, значит, — отвечаю я.
— Не трудовой, значит.
— Не трудовой, — отвечаю.
— Значит, вам жить тут нельзя в фатере, значит. Вы ведь не рабочий.
— Нет, — говорю я ему, — я рабочий. Портреты пишу, списываю, какой, что и как.
Комендант Ильин прищурился, и лицо превратилось в улыбку.
— А меня можешь списать?
— Могу, — говорю.
— Спиши, товарищ Коровин, меня для семейства мово.
— Хорошо, — говорю, — товарищ Ильин, только так, как есть, и выйдешь — выпивши. (А он всегда с утра был пьян.)
— А нельзя ли тверезым?
— Невозможно, — говорю, — не выйдет.
— Ну ладно. Погоди, я приду тверезый, тогда спиши.
— Хорошо, — говорю, — Ильин. Спишу, приходи.
Больше он не просил себя списать.
Взято здесь: https://duchesselisa.livejournal.com/250421.html
|
|
</> |

 Доверие к XPR: основные принципы ответственного инвестирования
Доверие к XPR: основные принципы ответственного инвестирования  После новогодних праздников почему-то резко подорожала кошатина :-)
После новогодних праздников почему-то резко подорожала кошатина :-) 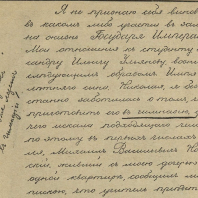 Образец почерка императора Александра III
Образец почерка императора Александра III  Либерал - уходи
Либерал - уходи  Вот как поступали 135 лет назад с уходящим годом:
Вот как поступали 135 лет назад с уходящим годом:  Про русское народное Новогоднее хлебосольство
Про русское народное Новогоднее хлебосольство  "только на этих кадрах промелькнуло где-то под полторы сотни ракет, а показана
"только на этих кадрах промелькнуло где-то под полторы сотни ракет, а показана  Фото от stereometria: Казань, декабрь 2024г.
Фото от stereometria: Казань, декабрь 2024г. 


