Без названия
 lual — 04.06.2020
В хороших, идеологически правильных, детских книжках и фильмах, при
наличии сюжета о том, как главного героя-ребёнка обижают, унижают и
всячески иначе плохо обращаются, обязательно будет и сюжет о том,
как пришёл некто большой и сильный, обидчиков наказал, героя спас и
вообще всё уроненное быстренько исправил, совсем-совсем всё.
lual — 04.06.2020
В хороших, идеологически правильных, детских книжках и фильмах, при
наличии сюжета о том, как главного героя-ребёнка обижают, унижают и
всячески иначе плохо обращаются, обязательно будет и сюжет о том,
как пришёл некто большой и сильный, обидчиков наказал, героя спас и
вообще всё уроненное быстренько исправил, совсем-совсем всё.Причём, сам до всего нужного додумавшись, без всяких просьб и жалоб от; ведь идеологически правильные герои о помощи не просят, на обидчиков зла не держат - ну разве что каким-то косвенным, завуалированным образом дают понять, что им плохо, и источник этого "плохо" находится вот здесь; они даже готовы обидчиков великодушно простить - разумеется, после того, как силы добра и счастья всем раздадут справедливость.
С одной стороны, это хороший сюжет.
Он позволяет многим детям, находящимся в сложном положении, сохранять веру в наличие справедливости и в то, что их когда-нибудь обязательно спасут. А значит - не впадать в совсем уж глухое отчаяние и не выходить из своей сложной ситуации в окно.
С другой - поскольку жизнь слишком часто не совпадает с сюжетами хороших, идеологически правильных, книжек и кино - образует очень большое количество тех, кого силы добра и счастья так и не спасли. А вот привычка этого спасателя со стороны ждать и именно на него возлагать все надежды - осталась. Вместе с соответствующим стилем поведения.
"Вы пишете тексты, которые провоцируют всех людей, у кого немного есть мозги в голове, сказать правду: Ваша (имя) - махровая садистка. А Вы её будете защищать: у нас с (имя) всё прекрасно. А мы будем доказывать, и так - до бесконечности. Вы втягиваете собеседников в ту игру, в которую играете с собой уже сорок лет" - вот эти слова, сказанные когда-то одним давно взрослым человеком другому давно взрослому человеку, вполне прилично описывают, как выглядит подобный стиль.
С завуалированными жалобами и с тайной надеждой на то, что придёт кто-то, и заберёт от плохих людей хорошую жизнь.
Дальше у этой истории есть три варианта развития.
Первый - самый частый и заезженный - при котором находится некто, сдуру решивший примерить на себя роль силы добра и счастья. С развёртыванием спасательной операции, с намерением сделать несчастного человека счастливым, и вот этим прочим всем.
Заканчивается неизменно в стиле дедушки Карпмана, тем, что Спасатель в глазах Жертвы довольно быстро становится новым Преследователем. Неправильно спасал, тонкую душевную организацию не учёл, не так сидит, не так свистит, и вообще при прежнем Преследователе было лучше...
И всё это - искренне не со зла, а просто потому что жить такой человек умеет лишь в роли Жертвы, и отношения строить научен лишь в таком стиле, и по-другому не знает, что как.
Второй - самый трагический - при котором Жертве открытым текстом, внятно и чётко доносят мысль, что спасать её тут никто не будет, и её, Жертвы, благополучная жизнь - только её личная забота.
Поскольку про благополучную жизнь Жертва при этом знает чуть меньше, чем ничего, то подобная мысль - сама по себе очень верная - побуждает её либо таки выйти на тот свет, либо, жестко переломавшись об обманутые надежды, всё же начать шевелиться в сторону благополучия.
Бывает, что второе следует за первым - если попытка не удалась, а мозги при этом худо-бедно включились - но это, будем откровенны, не то стечение обстоятельств, на которое стоит рассчитывать.
И третий - до сих пор самый редкий - это терапия. Длинная, ориентированная на то, чтобы всю систему мировоззрения полностью менять.
Потому что мировоззрение Жертвы - оно никогда не не про благополучие.
Оно вообще никогда не про себя.
Оно всегда про кого-то другого.
Про то, как умаслить Преследователя, чтобы поменьше тиранил.
Про то, как соблазнить Спасателя, чтобы побыстрее уже спасал.
Про то, что там думает, чувствует, считает каждый из них, а что он будет делать, когда, а как он поступит, если, а как добиться того, чтобы он...
Там всё внимание - вовне.
На попытки управлять другими.
И совершенно ничего - на то, чтобы управлять собственной жизнью.
И пока силы и внимание распределены именно так, пока человек занят чем угодно, кроме собственной жизни, и ориентирован на что угодно, кроме собственных целей и ценностей - самоощущение Жертвы никуда от него не денется.
|
|
</> |

 Айфон 16 в Уфе: почему цена так отличается в разных магазинах
Айфон 16 в Уфе: почему цена так отличается в разных магазинах  Доброе утро!
Доброе утро!  Penner-Ash Willamette Valley Pinot Noir
Penner-Ash Willamette Valley Pinot Noir 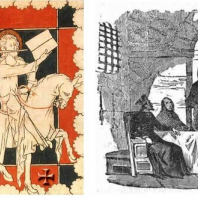 22 марта ● "День Балтийского моря" и не только...
22 марта ● "День Балтийского моря" и не только...  Фотографы по четвергам. 3. Леопольд Стрелицкий. Придворный фотограф
Фотографы по четвергам. 3. Леопольд Стрелицкий. Придворный фотограф  «Праздновала свой день рождения рядом с пустым стулом мужа!» — жалуется Марина
«Праздновала свой день рождения рядом с пустым стулом мужа!» — жалуется Марина  прогноз от симпсонов
прогноз от симпсонов  "Украинство" это ад
"Украинство" это ад  Лапки системы Штраусслера
Лапки системы Штраусслера 


