29 января 1927 года
 vazart — 29.01.2022
в Париже и в Москве.
vazart — 29.01.2022
в Париже и в Москве.В Париже у эмигранта Дон-Аминадо в русской газете "Последние новости" в этот день опубликовали
РОМАН ПИШУЩИХ МАШИНОК
Я не знаю, правда это,
Явь ли это или сон?..
Мы стучали на машинках
Ундервуд и Ремингтон.
Он стуцал на Ундервуде,
Я стучала на другой.
Он имел свою работу,
Я отдел имела свой.
Мы молчали и любили.
Мы любили... этот труд.
Мы молчали и стучали,
Ремингтон и Ундервуд.
А когда двенадцать било,
Сердце билось в унисон,
И стучать переставали
Ундервуд и Ремингтон.
Он молчал и улыбался,
Улыбалась я ему.
И краснели, и бледнели,
Неизвестно почему...
А в двенадцать с половиной,
Что-то в душах затая,
Мы садились и вздыхали —
Первый он, вторая я.
И опять к бумажным грудам
Возвращались — я и он,
Он, склонясь над Ундервудом,
Я, уткнувшись в Ремингтон.
Так могло бы продолжаться
Вплоть до Страшного суда.
Если б наш столоначальник
Не сказал однажды: да!..
Да!..— сказал он—да! я вижу,
Этот дьявольский сосуд:
Шрифт машинки Ремингтона
Переходит в Ундервуд!!!
Допустимо ли однако
Это, скажем, рококо
В документах нашей фирмы,
Фирмы «Джонсон, Смит и Ко»?!
Нет! никак недопустимо!..—
Мы сказали в унисон,
Проклиная две системы
Ундервуд и Ремингтон.
И немедленно над нами
Совершен и Страшный суд:
Он посажен к Ремингтону,
Мне же дан был Ундервуд.
После зтой пересадки
Я молчала, он молчал.
Я старалась и стучала,
Он старался и стучал.
И когда двенадцать било,
Под часов старинный звон
— Ундервуд? — спросил он кратко,
Я сказала: Ремингтон...
И вздохнул он облегченно,
И вздохнула я легко,
Как вздыхают только клерки
Фирмы «Джонсон, Смит и Ко».
А о том, что было после
Меж бумажных этих груд,
Знают только две машинки —
Ремингтон и Ундервуд.
1927
Другой русский парижанин, композитор Сергей Прокофьев, задумавшись о возвращении в Россию, в январе 1927 года приехал с женой в Москву, видимо, на разведку. 29 января он записал в своём дневнике:
Завтракали с Серёжей Себряковым в «Большой Московской». Мне хотелось расспросить его про обстоятельства, сопутствовавшие аресту Шурика, дабы лучше ориентироваться в моих попытках вытащить его из тюрьмы. Впрочем, много нового я не узнал. Серёжа Себряков подтвердил, что Шурик ни в каких политических делах не повинен, а влип за компанию и отчасти от того, что при допросе не хотел назвать фамилии людей, которых это упоминание могло бы подвести.
Удивительный человек этот Серёжа Себряков. Когда-то давно он был «красным» студентом и вечно бил тревогу по поводу предстоящих беспорядков, хотя в то время было ещё далеко до революции 1905 года. Теперь ему пятьдесят лет, но его алармистские приёмы нисколько не изменились, и, сидя в «Большой Московской», он с таким же конспиративным видом расспрашивал, правда ли, что у англичан уже готов план сбросить с аэропланов на Москву столько снарядов с удушливыми газами, чтобы одним ударом задушить весь город, ибо англичане якобы решили пожертвовать даже двухмиллионным населением, лишь бы отравить Кремль. В конце концов мы были рады, когда этот завтрак кончился, потому что хотя он и говорил о пустяках, но с таким видом и с таким нашёптыванием, что казалось, будто мы впрямь принимали участие в адском замысле англичан.
Днём заходила к нам старшая дочка Шурика, Алёна, с письмом от матери. Милая девочка, ей тринадцать лет, но с трудом можно дать десять. Ясно, что Надя волновалась относительно моих шагов к освобождению Шурика, и хотя я не хотел за это браться слишком рано, прежде чем не осмотрюсь и не соображу, к кому лучше обратиться, всё же я решил попробовать почву у Цуккера, который в конце концов будучи секретарём при ВЦИКе мог проделать эту вещь запросто и между прочим. В семь часов он как раз явился для того, чтобы заполнить кое-какие бланки для заграничного паспорта. В связи с вопросом в бланке о моих родственниках, разговор естественным путём коснулся Шурика. Я спрашиваю его, не сможет ли он предпринять каких-либо шагов к освобождению моего кузена. Цуккер сначала смущается, потом советует взять справку у Нади о приговоре суда, именно: когда, за что, на сколько и т.д.
Затем Пташка, Цуккер и я отправляемся в МХАТ второй, Московский Художественный Академический Театр № 2. Дают «Блоху» Лескова в переделке Замятина и постановке Дикого. «Блоха» — один из сенсационных спектаклей и о нём нам уже говорили в Риге. Нас проводят в директорскую ложу, что у самой сцены. Там уже сидит какая-то фигура, но её ликвидируют, переведя в партер. Первый акт начинается с карикатуры на императорский двор и на Александра I, причём это превращено в такую буффонаду, что мы с Пташкой только переглядывались.
— Правда, как здорово? — захлёбывался от восторга Цуккер.
Мы в пределах деликатности и в меру горячо поддакивали, хотя надо сказать, что фигуры некоторых камергеров были действительно схвачены неплохо. Вся суть в том, что мы в первый раз видели советскую постановку и поневоле наклёвывался вопрос, неужели же все постановки выдержаны в этом стиле? Однако второй акт, начавшийся тульскими частушками, сразу переменил настроение. Частушки были прямо-таки очаровательны, шум издали приближающихся казаков передан необычайно изобразительно, и вообще вся постановка дальше шла на славу. Очень хорош был акт в Лондоне.
В антракте, в маленькой гостиной, примыкающей к нашей ложе, был сервирован чай с бутербродами и пирожными. Появился Дикий, который не только ставил эту пьесу, но и играл атамана Платова. Во время чая разговоры о моих впечатлениях от постановки «Блохи», а также о будущем постановки «Апельсинов» в Большом театре, которая поручается Дикому. Мне также было вручено письмо от дирекции МХАТа, в котором приветствуется мой приезд. В общем, очень приятный и ласковый приём, тем более, что это не музыкальный мир, а театральный.
|
|
</> |

 Как согласовать перепланировку помещений в 2025: понятным языком
Как согласовать перепланировку помещений в 2025: понятным языком  В деле об убийстве с расчленением ребёнка в Москве появился первый
В деле об убийстве с расчленением ребёнка в Москве появился первый  Анатонны. Задание 42. Идиомы. Ответы
Анатонны. Задание 42. Идиомы. Ответы  Пустые мысли изнуряют душу
Пустые мысли изнуряют душу  Мурманск, ледокол "Ленин" - ноябрь 2025
Мурманск, ледокол "Ленин" - ноябрь 2025  Двузубый показал гланды
Двузубый показал гланды 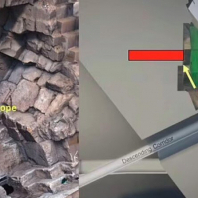 Несколько свидетельств эпохи Просвещения о Великой пирамиде, необъяснимых при
Несколько свидетельств эпохи Просвещения о Великой пирамиде, необъяснимых при  Без названия
Без названия  Сказочный зимний Домбай
Сказочный зимний Домбай 



