2. Основные принципы концепции «государства ночного сторожа» (часть 2)
 4toblog — 15.03.2023
4toblog — 15.03.2023
Среди обязанностей государства представители либерализма, прежде всего А. Смит, называют две: защиту личности от сограждан, а также защиту личности и общества от угрозы извне. Государство в таком понимании— это прежде всего армия, полиция и суд. Не меняет характера государства и третья из перечисленных обязанностей государства.
Третья и последняя обязанность государства, или правителя, состоит в том, чтобы «...создавать и содержать определенные общественные сооружения и общественные учреждения..., создание и содержание которых не может быть в интересах отдельных лиц или небольших групп, потому что прибыль от них не сможет никогда оплатить издержки отдельному лицу или небольшой группе, хотя и сможет часто с излишком оплатить их большому обществу» [А. Смит. Исследования о природе и причинах богатства народов, М., 1935, т. II, стр. 231.].
Конкретизируя эту последнюю обязанность, Смит указывал на два направления деятельности государства:
а) строительство и содержание в порядке общественных сооружений, то есть строительство и содержание дорог, мостов, судоходных каналов, портов, линий связи;
б) устройство и содержание школ для простых людей.
Исключения, которые делал А. Смит и которые свидетельствовали о его реализме, не изменяли концепции либерального государства, а скорее приспосабливали ее к потребностям экономического механизма, основанного на единственном мотиве деятельности — погоне за прибылью. Согласно такому пониманию, государство должно брать на себя выполнение задач, которые нерентабельны для частного предпринимательства но с точки зрения функционирования хозяйства должны быть выполнены. Это признание общественной инициативы в проведении мероприятий, не рассчитанных на индивидуальную прибыль, на практике означало перекладывание издержек по их осуществлению на общество. При этом речь здесь шла о таких областях, в которых государство не подменяло частное предпринимательство и не конкурировало с ним, а также в которых частное предпринимательство не было непосредственно заинтересовано [M. Oakeshott, Social and Political Doctrine of Contemporary Europe, N. Y., 1950, p. 19.].
Следует подчеркнуть, что границы деятельности государства в этой области ни в коей мере не очерчивались представителями либерализма однозначно. Так, Линкольн (вслед за Смитом) включал в число функций государства, кроме защиты от внешнего врага и охраны общественного порядка, такие задачи, как строительство и содержание дорог, мостов и т. д., помощь детям, не имеющим средств к существованию, и больным, организация начального обучения и другие. Совсем иного мнения придерживались в этих вопросах В. фон Гумбольдт (1767—1835) и Г. Спенсер [1]. Гумбольдт, рассматривая вопрос о границах государственной деятельности, решительно высказывается против того, чтобы государство занималось какими-либо иными делами, кроме заботы о безопасности граждан. Государство, по его мнению, не должно ставить перед собой каких-либо позитивных задач, таких, например, как повышение благосостояния граждан либо забота о моральном и физическом здоровье нации.
Исходя из этого, Гумбольдт высказывается не только против таких задач государства, как содействие развитию сельского хозяйства, промышленности и торговли, но также и против основания государством благотворительных учреждений, целью которых было бы оказание помощи бедным (единственное исключение — это забота о несовершеннолетних и душевнобольных), против основания учреждений по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий, против деятельности государства, направленной на укрепление нравов и на воспитание народа [2].
Крайность такого подхода наиболее отчетливо выступает в формулировке: «Государство воздерживается от всякой заботы о благосостоянии граждан и не делает ни одного шага дальше того, что необходимо для гарантирования их от самих себя и от внешних врагов, ни в каких других целях оно не может ограничивать их свободы» [W. von Humboldt, Ideen..., S. 65.].
Подобной крайней точки зрения, хотя и в других условиях (не следует забывать, что Гумбольдт выступал против расширения сферы деятельности государства в условиях военно-полицейской машины прусского государства), придерживался Г. Спенсер в книге «Человек против государства», заглавие которой в известном смысле стало символичным для крайне либерального понимания отношения личности к государству.
Спенсер решительно высказывается против основания государством каких-либо учреждений для бедных, несчастных или недоразвитых.
Спенсер с позиции социального дарвинизма утверждает, что создание возможности для выживания неприспособленных за счет приспособленных было бы насилием над естественными законами социальной эволюции и в итоге вело бы к ухудшению качеств человеческой расы. Крайне негативной точки зрения Спенсер придерживался также и по вопросу о деятельности государства в сфере образования, регулирования валютного курса и даже в сфере санитарии и здравоохранения [3].
Формулируя общий принцип невмешательства государства в сферу частной собственности, либеральная доктрина распространяла его на отдельные области экономической и общественной деятельности. Так, применительно к международному экономическому обмену выдвигался постулат не контролируемой государством свободы торговли и недопустимости любых ограничений, например ограничительных тарифов и вывозных пошлин. Одним из факторов, облегчающих свободный обмен товарами и капиталами, должна была быть определенная финансовая политика, суть которой выражается в установлении государством валюты, опирающейся на золото и отвечающей международному курсу. С этим связано отрицательное отношение к валютным предписаниям, поддерживающим искусственный валютный курс, и ко всякого рода запретам в денежном обращении. В отношении бюджета господствовала идея дешевого правительства, расходы которого ограничиваются главным образом содержанием армии, полиции, судов и минимальным административным бюджетом.
В сфере внутреннего товарооборота либеральная доктрина выдвигала прежде всего принцип невмешательства государства в способ осуществления права собственности, возражая против установления какого-либо рода препятствий на пути свободного пользования средствами производства. Следствием этого было принятие принципа свободы договоров, согласно которому государство должно стоять на страже их выполнения, но стороны, участвующие в товарообороте, пользуются при их заключении полной свободой [См. Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, М., 1955, т. I, стр. 282.].
Этот вопрос самым тесным образом связан с отношением либерализма к социальному законодательству. Требуя невмешательства государства в отношения между капиталистом и рабочим, доктрина либерализма выступает также против вмешательства в социальные вопросы. Например, не должно иметь места вмешательство государства в решение вопроса о повышении заработной платы рабочим, так как это:
1) сократило бы прибыль предприятий и, как следствие, тормозило бы рост производства и привело бы к нарушению экономического равновесия;
2) не дало бы искомых результатов, ибо в результате действия закона спроса и предложения заработная плата устанавливается на уровне, необходимом для обеспечения прожиточного минимума того числа рабочих, которых может занять производство (так называемый «железный закон заработной платы»);
3) не дало бы результатов и по той причине, что уменьшение прибыли капиталистов вело бы к сокращению занятости, в результате чего общая сумма заработной платы не только не возросла бы, но могла уменьшиться, что было бы нежелательным также и с точки зрения интересов рабочих. Государство вообще должно избегать посредничества между рабочими и капиталистами, оставляя эту сферу отношений действию экономических законов.
Подобные позиции занимала доктрина либерализма и по вопросу социального обеспечения, считая, что оно ведет к чрезмерному уменьшению прибыли предприятий, а также заработков рабочих. Кроме того, оно облегчает забастовки рабочих и затрудняет ликвидацию безработицы путем понижения заработной платы. По этим же причинам представители доктрины либерализма длительное время возражали против введения государством общественных работ: они считали их средством, которое способно только временно увеличить занятость и которое в конечном счете закрепляет безработицу (вследствие нерентабельного вложения капитала).
Отрицательное отношение к социальной деятельности государства является следствием отношения либерализма к проблеме общественного неравенства. Выступая против вмешательства государства, направленного в какой-то степени на смягчение такого неравенства, либерализм исходит из предпосылки, что оно является чем-то естественным. Деятельность государства, направленная на уменьшение неравенства, была бы тормозом развития, так как она сокращала бы заинтересованность в увеличении богатства и противоречила бы принципу свободы. Вмешательство в пользу угнетенных слоев в конечном счете вело бы к сокращению национального дохода, что наносило бы серьезный ущерб самим угнетенным.
Вопрос о распределении национального дохода с точки зрения доктрины либерализма является второстепенным. Самое главное — величина национального дохода. В его росте либералы видели основное средство повышения общего уровня жизни.
Другим таким средством, на которое указывали некоторые представители доктрины либерализма (например, И. Бентам), является стремление к некоторому смягчению неравенства путем расширения и укрепления промежуточных слоев. Так должно быть достигнуто некоторое уменьшение пропасти между буржуазией и рабочим классом, должен возникнуть буфер, отделяющий богатство от нищеты и затрудняющий столкновение между ними. Стремление к укреплению промежуточных слоев было направлено на формирование их в качестве силы, гарантирующей от общественного переворота [G. Burdeau, Traite..., p. 164.].
Признание общественного неравенства естественным явлением, которого нельзя устранить, а можно только смягчить, проливало свет на отношение либерального государства к наиболее крайним проявлениям этого неравенства, а именно к социальной нищете. Как пишет Бюрдо о периоде Второй империи во Франции — а это утверждение можно обобщить,— за фарисейскими заявлениями стояла враждебность к вмешательству государства; его считали более опасным, чем то зло, выступающее в образе нищеты, которое это вмешательство должно было вылечить [4]. Некоторые (как, например, Мандевилль) трактовали нужду как наказание за безделье, неряшливость, отсутствие предусмотрительности 5].
Они считали нужду конечным фактором, побуждающим усилия в направлении обогащения. Наиболее крайней точки зрения, граничащей с цинизмом, придерживались представители социал-дарвинизма, считавшие нищету следствием порочности человеческой природы и воспевавшие борьбу за существование, в результате которой побеждают наиболее приспособленные, а наименее предприимчивые и энергичные терпят поражение. Помощь государства бедным с этой точки зрения была бы действием, противоречащим законам природы [6]. Выход из состояния нищеты зависит от самих нуждающихся, от их бережливости, умеренности, трудолюбия. Даже те, кто, будучи более дальновидным, признавал необходимость деятельности по уменьшению нужды, считали, что вопрос должен решаться скорее не вмешательством государства, а филантропией, благотворительностью просвещенных классов.
Отношение доктрины либерализма к деятельности государства в области просвещения не было таким отрицательным, как к его социальной деятельности. Однако и в этом вопросе также не было единой точки зрения. Мнение А. Смита, который указывал на необходимость учреждения и содержания государством школ «для простых людей», ни в коей мере нельзя считать общепризнанным.
У ряда буржуазных теоретиков были сомнения относительно ценности образования с точки зрения поддержания общественного порядка, формирования личности в духе буржуазной идеологии. Противники организации государством дела образования выступили с двоякого рода аргументацией. Джемс Стюарт Милль в такого рода деятельности видел опасность для свободы, угрозу навязывания личности взглядов, отвечающих интересам правящей группы. Г. Спенсер возражал против идеи всеобщего образования, считая развитие образования опасным для капиталистической системы.
Суммируя вышеприведенные рассуждения, следует сказать, что согласно концепции «государства ночного сторожа» его роль должна сводиться к обеспечению защиты от внешнего врага (армия), к гарантированию безопасности и общественного порядка, основанного на частной собственности (полиция, правосудие), к обеспечению деятельности свободноконкурентного механизма капиталистического хозяйства. Что касается экономической сферы, то эта теория признавала необходимость ведения такого рода дополнительной деятельности государства лишь в областях, в которых частный капитал не был непосредственно заинтересован, (средства сообщения, почта, валюта, система мер и весов). Эта теория в принципе признавала необходимость содержания государством школ. В то же время она резко выступала (за немногими исключениями) против деятельности государства в социальной сфере.
Сформировавшаяся во второй половине XIX в. марксистская теория, критикуя капиталистический строй, подвергла также принципиальной критике доктрину либерализма и вытекающую из нее концепцию «государства ночного сторожа». Исходным пунктом марксистской критики было установление тесной связи между теорией естественного права, либеральной доктриной и развитием капиталистического уклада, а также потребностями буржуазии, стремящейся к завоеванию власти, а затем к ее укреплению. Взгляды школы естественного права и либеральной школы политэкономии были в одинаковой степени отражением экономических и политических потребностей буржуазии [7]. Марксизм показал, с одной стороны, прогрессивный смысл этих взглядов, выражающийся в борьбе за ликвидацию феодальных ограничений и в прокладывании пути промышленному развитию, а с другой — всю ограниченность либерализма, связанную с классовыми интересами теоретиков буржуазии.
В свете марксистской критики борьба за то, что «естественно и разумно», была на самом деле борьбой за то, что согласуется с интересами буржуазии. Обосновывая посредством вечных и неизменных законов природы необходимость изменения строя, приспособления его к требованиям этих законов, буржуазия в то же время отождествляла собственные интересы с интересами всего общества, придавала своим классовым требованиям всеобщий, общечеловеческий характер. Мистификация индивидуалистического мировоззрения, с которым выступает буржуазия, как показал К. Маркс, состоит по существу в отождествлении капиталиста с человеком вообще [8].
Либеральная концепция «государства ночного сторожа» акцентировала роль функции охраны порядка и функции защиты от нападения извне, которые составляли в то время основу всей государственной деятельности. Государственный аппарат тогда был действительно небольшим и состоял прежде всего из армии, полиции и органов правосудия. Органы принуждения и насилия составляли не только действительную основу государственного аппарата, определяли его силу и эффективность, они и в количественном отношении были его преобладающей частью. Однако со стороны представителей этой доктрины было лицемерием представлять эти функции как функции общества в целом, как функции надклассовые. Это полностью относится к внешней функции, которая ни в коей мере не ограничивалась целями защиты страны от внешнего врага — она служила и целям экономической экспансии (захват колоний и пр.).
Точно так же это относится и к внутренней функции, имевшей целью охрану общественного порядка. По сути дела, она состояла в охране капиталистической собственности как основы строя, в обеспечении политического господства буржуазии.
Антифеодальная направленность этой функции во многих государствах не была особенно сильной вследствие буржуазно-феодального компромисса, самым ярким примером которой являлась Англия, либо ввиду отсутствия феодализма (Соединенные Штаты Америки). Даже там, где такая направленность была сильной (Франция), это не мешало буржуазии действовать и в другом направлении, против наиболее радикальных группировок третьего сословия. Конец XVIII и начало XIX в.— это период, когда начинается выделение рабочего класса из третьего сословия. С того времени острие внутренней функции буржуазного государства направляется во все возрастающей степени против растущего в количественном отношении рабочего класса [9]. Необходимость обеспечения капиталистической собственности и защиты власти буржуазии от стихийно нарождавшегося бунта против нужды и эксплуатации в то время начинает все более выдвигаться на первый план.
В условиях системы, основанной на частной собственности, борьба за свободу личности была по существу борьбой за свободу для буржуа, за право присвоения прибавочной стоимости и неограниченного пользования ею, за право на эксплуатацию. Не без оснований один из представителей либерального направления политической экономии в Польше межвоенного периода Ф. Цвейг говорил, что «...борьба за свободу — это борьба за частную собственность. Борьба за принцип частной собственности — это борьба за свободу»[F. Zweig, Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, Krakow, 1938, s. 37.]. С буржуазных позиций нет свободы без обеспечения частной собственности на средства производства, нет свободы без права на эксплуатацию. Как писал Ф. Цвейг: «Свобода является основанием и коррелятом частной собственности. Свобода — это те корни, из которых вырастает частная собственность. И без этих корней частная собственность сохнет и умирает. Кто защищает частную собственность, тот должен защищать и свободу. И если не защитить свободу, частная собственность погибнет» [F. Zweig, Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, Krakow, 1938, s. 39.]. Трудно найти более яркий пример буржуазной интерпретации понятия свободы.
Что касается отношения государства к экономике, то доктрина либерализма, без сомнения, правильно акцентировала тот факт, что государство не имеет собственных целей и выполняет по отношению к экономике служебную роль. Постулат невмешательства государства в сферу частной собственности ни в коей мере, однако, не говорит о надклассовой роли государства в этой области, о какой-то его нейтральности.
Экономическое преобладание собственника средств производства над рабочим, располагающим только своей рабочей силой, экономическое принуждение было настолько сильным, что невмешательство государства являлось в этой ситуации наиболее выгодной политикой с точки зрения буржуазии, так как давало возможность получения дешевой рабочей силы и большего ее предложения [10].
Постулат невмешательства государства в экономическую жизнь по существу охранял буржуазию от вмешательства в ее дела других общественных сил, следовательно, он выдвигался с целью обеспечения неограниченной свободы эксплуатации. Буржуазия, как писал Ф. Энгельс, обращая государственную власть против пролетариата, одновременно старается «...держать ее как можно дальше от самой себя...»
Неравенство условий обеих соперничающих сторон, одна из которых распоряжается всеми средствами производства, а другая — только рабочей силой, предопределило, по мнению марксистских теоретиков, то обстоятельство, что не могло быть и речи о равенстве сторон или о добровольности при заключении договоров. Принцип свободы договоров, свободная игра сил в отношениях между капиталистом и рабочим в системе, основанной на частной собственности на средства производства, автоматически могли действовать только в одном направлении — в направлении усиления преимуществ капиталиста перед рабочим, обеспечения ему неограниченных возможностей эксплуатации, и в результате — против свободной игры сил [11]. Оспаривая один из основных тезисов либеральной школы — о гармонии интересов между классами и прослойками капиталистического общества, — марксизм доказал, что политика невмешательства государства ведет к углублению противоречий капитализма, выражающихся как в нарастающем конфликте между буржуазией и рабочим классом, так и в усилении анархии в экономике, находящей выражение в периодических кризисах, что особенно рьяно отрицали представители так называемой вульгарной политэкономии (Мальтус, Сэй, Маккаллох, Сеньор, Бастиа). Таким образом, противоречия капитализма лежали в основании концепции «государства ночного сторожа». Концепция, программно стремившаяся к обеспечению свободы личности, стала концепцией, гарантирующей царство свободы для буржуазии и систему рабства и угнетения для рабочего класса. Теория, провозглашающая равенство, стала основой углубляющегося неравенства. Теория, декларирующая невмешательство ради обеспечения гармоничного развития общества, в действительности вела к углублению противоречий. Государство, которое должно быть стражем интересов всех членов общества, на деле оказалось стражем частной собственности, являющейся основой классового господства буржуазии. Государство, которое должно было обеспечить рост благосостояния всех членов общества, в действительности посредством невмешательства облегчало быстрое обогащение класса собственников средств производства, не препятствуя процессу пауперизации масс Внутренние противоречия, заложенные в концепции «государства ночного сторожа», приводили к тому, что на практике она не стала общепринятой, и не была реализована в чистом виде во всех странах [12].
Кроме того, даже в тех странах, где принцип лессеферизма был сравнительно широко применен, например в США и в Англии, имелись весьма серьезные расхождения теории с практикой [См. I. Sachs, Sektor panstwowy..., s. 68]. Они состояли не только в том, что государство принимало на себя те дополнительные функции, которые не давали прибыли индивидуальным капиталистам (дороги, каналы, почта и т. д.), не только в том, что государство выступало как потребитель по отношению к частнособственническому производству (суда, снаряжение, форменная одежда для армии и т. д.), и не только в том, что оно создавало государственный сектор народного хозяйства (военная промышленность, верфи, арсеналы, табачная, винно-водочная монополии и пр.). Основная проблема состоит в том, что принцип невмешательства в сферу частной собственности никогда не исключал вмешательства в виде помощи отдельным капиталистам. Тем самым государство выступало как соучастник «фабрикации фабрикантов». Таким образом, вмешательство буржуазного государства заключалось не только в охране собственности, но и в том, что оно способствовало ее развитию.
Такого рода вмешательство сыграло серьезную роль не только в ускорении процесса первоначального накопления, но также и в период («свободного» развития капитализма. Вот как об этом писал Дж. Ст. Милль: «Деятельность правительства никогда не бывает слишком широкой, если она не тормозит, а поддерживает и побуждает стремления и развитие индивидуумов. Зло начинается только тогда, когда правительство вместо того, чтобы поддерживать деятельность и силу индивидуумов и групп, заменяет их собственной деятельностью, когда вместо того, чтобы информировать, советовать, а при необходимости и осуждать, оно накладывает оковы на их деятельность либо отставляет их в сторону и выполняет работу за них» [Дж. Ст. Милль, Утилитаризм. О свободе, Петербург, 1869, стр. 279.].
Правильно указывает Ласки, что «...предприниматели никогда не жаловались на вмешательство правительства, направленное на поддержку их интересов; таможенные пошлины, субсидии, экспортные премии, специальные кредитные льготы и другие формы вмешательства редко не встречались их аплодисментами. Они возражали только против такого вмешательства, которое ставило целью охранить потребителя или же защитить бесправных (unter-privileged) на рынке труда» [H. J. Laski, Reflections on the Revolution of Our Time, London, 1943; cp. S. Fine, Laissez-Faire and the General-Welfare State, N. Y., 1956, p. 30.].
В XIX в. вмешательство государства заходило далеко не только в Германии, но также и в Соединенных Штатах Америки — начиная с 1815 г., то есть в период свободной конкуренции, федеральное правительство проводило политику высоких таможенных пошлин, направленную против ввоза из-за границы товаров по более низким ценам, и таким образом поддерживало некоторые отрасли промышленности [См. J. L Field, Government in Modern Society, New York-Toronto — London, 1951, p. 72—73.]. Государство выделяло также субсидии судостроительным компаниям, устанавливало твердые цены на сельскохозяйственные продукты и т. д. [13].
Справедливо указывает Г. Обри, что «...промышленная революция распространялась с Англии на другие страны только при значительной помощи правительств. Степень и размеры этой помощи различались в зависимости от требуемой быстроты прогресса и потребности в восполнении инициативы» [H. G. Aubrеу, The role of the state in economic development, American Economic Review, 1951, № 2, p. 268—269.].
Таким образом, концепция «государства ночного сторожа» никогда не трактовалась как концепция, исключающая вмешательство государства в экономическую жизнь в пользу буржуазии. Роль государства никогда не рассматривалась только как «негативная», о чем свидетельствуют перечисленные выше факты. Концепция «государства ночного сторожа» означала отрицательное отношение не вообще ко всякому вмешательству, а только к некоторым его видам.
«Отрицательное» отношение к вмешательству государства имело в виду прежде всего вмешательство в пользу трудящихся масс, вмешательство, которое как-то ограничивало бы возможности эксплуатации. Необходимо, однако, заметить, что и в этой области практика вынудила отступить от теоретических принципов, причем довольно быстро [14].
Буржуазное государство в Англии, собственно говоря, уже в начале XIX в. было вынуждено вмешиваться в экономическую жизнь, лимитируя в некоторой степени неограниченную свободу эксплуатации. Это было вызвано натиском рабочего класса, который бунтовал против нечеловеческих условий труда и растущей нищеты, а также потребностями индустриализации.
Практика показала, что принцип «laissez-faire» не мог быть применен в чистом виде, без того чтобы он не вызывал серьезных для буржуазии социальных последствий. Необходимость устранения этих неприятных для буржуазии последствий, которые могли бы превратиться в угрозу для господства буржуазии, вынуждала ее к очередным отступлениям от принципа невмешательства в виде социальных реформ, что означало возрастание регулирующей роли государства. Эти мероприятия противоречили принципу «laissez-faire», но они были необходимы для защиты капитализма.
_____
1 См. W. von Humboldt, Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, Potsdam, 1920, s. 77; см. также J. B. Fiсhte, Grandlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre, Fichtes Werke, Leipzig, 1908, Bd. II. S. 148.
2 «Общественное воспитание, — писал Гумбольдт, — по-моему, полностью выходит за рамки, в которых государство должно развивать свою деятельность» (W. von Нumbоldt, Ideen..., S. 102—103).
3 Никто не задумывался над тем, пишет Спенсер, что «...санитарные средства, предписываемые государством и как правило всегда плохо применяемые, увеличивают бедствия, хотя целью их является уменьшение этих бедствий» (Н. Spencer, The Man versus State, London, 1885, p. 124).
4 G. Burdeau, Traite..., p. 340. Сэй ставил право на помощь в зависимость от того, «чтобы нуждающийся доказал, что несчастье, которое с ним случилось, является в конечном счете результатом господствующего общественного строя, а также, что тот же самый строй не дает ему каких-либо средств избежать несчастья» (см. J. В. Sау, Traktat ekonomii politycznej, Warszawa, 1960, s. 745).
5 Как писал в то время Мандевилль: «Чтобы сделать общество счастливым, необходимо, чтобы было много несчастных и бедных» (цит. по Е. Н. Саrr, The New Society, London, 1951, p. 45). Характерными для такой точки зрения, открыто признающей дисциплину голода неотъемлемым фактором формирования капиталистической системы, являются высказывания, приведенные в работе М. Гиршовича (М. Hirszowicz, Problemy panstwa brytyjskiego, Studia socjologiczno-polityczne, 1960, № 7, s. 281).
6 Рикардо, нападая на так называемое законодательство о бедных, обосновывал это опасностью предоставления значительной части общества возможности жить неразумно за счет сокращения дохода у людей разумных и трудолюбивых (см. W. Szubert, Problem zatrudnienia w ekonomii klasycznej i u Karola Marksa, «Przeglad Nauk Historycznych i Spolecznych», 1950, t. I, s. 8).
7 Правильно отмечает М. Боруцкая-Арцтова: «Во взглядах представителей школы естественного права, возникшей в XVII в., мы находим формулировку основных элементов буржуазного мировоззрения (индивидуализм, утилитаризм), а также постулатов, относящихся к вопросам существа строя (которые станут источниками развития буржуазного либерализма), — врожденные права личности, гармония интересов, ограниченная роль государства,— которые заложат фундамент теории правового государства (триединое разделение власти, право большинства на власть, суверенность народа, первое формулирование правового позитивизма)» («Prawo natury...», s 289).
8 Характеризуя взгляды физиократов, К. Маркс писал, что это «...первая система, анализирующая капиталистическое производство и изображающая в виде вечных естественных законов производства те условия, в которых капитал производится и в которых он производит» (К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, М., 1955, часть I, стр. 16).
9 Как пишет М. Дюверже, в XIX в. классический либерализм обращен уже не против абсолютной монархии, а против угрозы насилия со стороны демократического или социалистического государства, воплотившегося в воспоминаниях о терроре (М. Duverger, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1956, p. 201).
10 Cp. G. Myrdal, Teoria ekonomii a kraje gospodarczo niero-zwiniete, Warszawa, 1958, s. 67.
Как отмечает В. Веселовcкий: «Государство способствовало капиталистам не посредством каких-либо социально-экономических декретов, принимаемых в их пользу, а путем непринятия каких-либо декретов. Защита конституционных прав собственника и свободы соглашений была достаточной для создания привилегированности, доминирующей позиции собственников средств производства — посредством предоставления им свободы решения вопросов о заработной плате, ценах, предоставлении работы и т. д. Право предоставления работы или увольнения, определение содержания трудового соглашения и пр. было в руках собственников орудием подчинения себе рабочих масс. Контроль над экономикой и богатство позволяли полностью подчинить себе города, районы, области и страну в целом» (см. Marksistowska teoria panowania klasowego, «Kultura i «Spoleczenstwo», 1961, № 1, s. 97).
11 «Величина заработной платы определяется сначала как результат свободного соглашения между свободным рабочим и свободным капиталистом. Впоследствии же оказывается, что рабочий вынужден согласиться на определение заработной платы капиталистом, последний же вынужден держать заработную плату на возможно более низком уровне. Место свободы договаривающейся стороны заняло принуждение» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 35).
12 Захс трактует период лессеферизма скорее как исключение и как кратковременное отступление от всякого рода «интервенционистских» политических курсов, как предшествующих капитализму периода свободной конкуренции, так и наступивших после него (см. I. Sachs, Sektor panstwowy, a rozwoj gospodarczy, Warszawa, 1961, s. 66; M. Maneli, О funkcjach panstwa, Warszawa, 1963, s. 108).
13 См. С. L. Васkеr, Freedom and Responsibility in the American Way of Life, N. Y., 1958; J. M. G. Burns and W. Peltasоn, Government by the People, N. Y., 1954. А. Гертц считает, что американское государство уже в XIX в. было важным орудием эксплуатации богатств Американского континента, и указывает на все более многостороннюю и тесную связь между государством и экономикой (A. Hertz, Stronnictwa polityczne Stanow Zjednoczonych, Paryz, 1967, s. 184—185).
14 Примеры отступлений уже в первой половине XIX в. от принципа laissez-faire перечисляет Дж. Ст. Милль («Основания политической экономии», Петербург, 1865, т. II, стр. 519—520).
Читай книги вместе с alpinabook.ru Смотри новинки на сайте Читай-город
Развивайся со sky.pro, получи любую профессию онлайн с Нетологией
Лучшие предложения электронных книг. Читай с удовольствием, везде.
|
|
</> |

 Топ-5 ошибок при установке полотенцесушителя и как их избежать
Топ-5 ошибок при установке полотенцесушителя и как их избежать  Рязанские детали
Рязанские детали 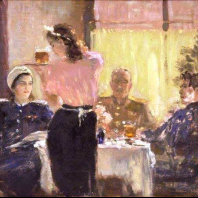 лучший сервис и лучшее качество
лучший сервис и лучшее качество  Фото летнего марафона 37/60
Фото летнего марафона 37/60 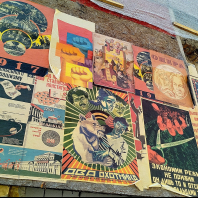 Чего только не увидишь на улицах Будапешта
Чего только не увидишь на улицах Будапешта  Когда полетит МС-21 МС.0013, а на Байкал поставят двигатель ВК-800,
Когда полетит МС-21 МС.0013, а на Байкал поставят двигатель ВК-800,  ПРИОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ
ПРИОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ  Для энергии — ума и сердца
Для энергии — ума и сердца  Ярославль. Находки.
Ярославль. Находки. 



