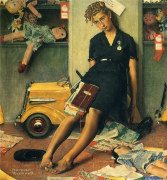В предполагаемом Ursprache Тлена, от которого происходят
 northern-wind — 22.03.2017
northern-wind — 22.03.2017
В предполагаемом Ursprache Тлена, от которого происходят
"современные" языки и диалекты, нет существительных, в нем есть
безличные глаголы с определениями в виде односложных суффиксов (или
префиксов) с адвербиальным значением. Например: нет слова,
соответствующего слову "луна", но есть глагол, который можно было
бы перевести "лунить" или "лунарить". "Луна поднялась над рекой"
звучит "хлер у фанг аксаксаксас мле" или, переводя слово за словом,
"вверх над постоянным течь залунело".
(Борхес, "Тлен, Укбар, Orbis tertius")
Продолжу говорить о языке. Начало здесь.
Прежде чем писать про историю лингвистики, надо ответить на вопрос why so serious.
Когда знаешь только родной русский и пару романо-германских языков, все видится обманчиво простым.
Вот они предложения, предложения состоят из слов, слова из корней, приставок и суффиксов. И слова, и корни, и суффиксы что-то значат.
В другом языке может быть другой порядок слов и иная морфология, но все равно это слова и суффиксы.
Как только выходишь за пределы родной индоевропейской парадигмы, защитного мелового круга, начинается магия.
Например, в эскимосских языках юпик то, что мы выразили бы отдельными словами, выражается грамматической формой.
Предложение "кайпиаллруллиниук", "эти двое явно были очень голодны" является единым словом, глаголом с цепочкой суффиксов.
-кайг - глагольный корень "быть голодным"
-пиар - интенсификатор ("очень")
-ллуру - суффикс прошедшего времени
-ллини - суффикс изъявительного наклонения (наблюдаемое реальное действие)
-к - суффикс третьего лица двойственного числа
Голодны-очень-были-видел-я-двое (однако).
Они могут быть чудовищно длинными.
"Айакакукуариуумииткапиаллруйугнаркук-каа" - "Думаю, она очень не хотела ездить в эти маленькие поездки, не так ли?".
(простите)
Тут бы и переопределить понятие слова, сказав, что вот они слова
В арабском (и вообще в семитских языках) словообразующие морфемы "прерывны" и вставляются внутрь корня (они называются трансфиксы или внутренние флексии).
Есть корень к-т-б, обозначающий процесс письма. Можно положить в него гласных и потрясти, иногда получается кораблик.
Например, КаТаБа — "он писал".
Или КуТуБун — "книги".
Или Ка:ТиБун — "писатель".
Или даже маКТаБатун — "библиотека".
Видите это переплетение корня и флексии? Похоже на восточные орнаменты.
Арабский также центрирован вокруг процессов, не субстанций. Там, где у нас будут писатель, библиотека, стол и книга, у них будут грани процесса письма. Реальность говорящего будет состоять из сходящихся вместе нитей процессов, не из взаимодействующих объектов.
В бытовой речи это затирается, а вот переводить арабскую философию на западные языки очень, очень сложно.
И я только смутно могу представить, что чувствует переводчик арабских стихов с их аллитерациями и нанизываниями строк на похожие флексии.
В индоевропейском до восторга узнавания древнеирландском были местоимения, вставленные внутрь глагола. Между приставкой и корнем.
Они обозначали над кем производится действие.
Если префикса-приставки не было, добавляли незначащее ro. Чтобы, cluinethir, "они слушают" могло превратиться в romcluinethir, "они слушают меня".
Еще у них склонялись предлоги.
Вроде бы, система категорий родная и понятная, но завернута в совершенно инопланетную морфологию.
Ирландцы в итоге сами этой системы не вынесли и попытались заменить ее связкой "служебный глагол+существительное". Вместо "я прочитал книгу" теперь говорят "есть я после чтения этой книги".
Лучше не стало (на территории Ирландии с языком вечно происходит какая-то психоделика).
Посмотрев на это, мы остаемся с вопросами что такое слово, на какие части оно делится, почему эти части стыкуются именно так, откуда они такие взялись и как это, черт возьми, объяснять и описывать.
И, кстати, как мозг породил это безобразие и почему животные его не умеют. Сигнальные системы животных гораздо жестче привязаны к виду.
И почему при всем разнообразии форм не бывает языков подобных описанному Борхесом (если только их не придумали специально).
И становится ужасно интересно, влияет ли язык на стиль мышления.
И это я еще не дошла до вопроса что такое смысл слов и как из них складывается смысл предложения.
Стоит, вооружившись этими вопросами, внимательно посмотреть даже на родную речь, как вскрываются бездны.
В частности, любой язык подвижен и не хочет оставаться на месте.
Простейший пример - как "себя" в русском выродилось в возвратную частицу "ся".
Осмеянное же всеми "проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа" пытается не то возродить старославянский независимый причастный оборот ("бывшу мне на море, восстала сильная буря"), не то c восемнадцатого века спотыкается об моду на французский, где такая конструкция допустима:
La visite terminée, je suis rentré chez moi.
"После окончания визита я вернулся к себе."
Кстати, в латыни похожую функцию мог выполнять аблатив (так называемый "отложительный" или "исходный" падеж):
Urbe captā Aenēās fūgit.
"Когда город был захвачен, Эней бежал."
Если римляне что-то применяли, оно обычно было функционально. Нужна людям такая конструкция и она отчаянно бьется обратно, поперек всех законов синтаксиса.
Лингвисты очень быстро перестают ругаться на зво́нят и на кофе среднего рода, потому что знают насколько языковая норма текуча. И насколько интересно разбирать причины ошибок.
И все это нужно как-то описывать и объяснять.
Чем лингвистика с переменным успехом и занимается, и о чем я и буду рассказывать дальше.
После того как достаточно вас запугала и запутала.
Буду рада лайкам, критике и дискуссии.
|
|
</> |

 Оплата зарубежных сервисов и подписок
Оплата зарубежных сервисов и подписок  Однажды в Москве в декабре не было снега.
Однажды в Москве в декабре не было снега.  «Лужским Мальдивам» 385000000 лет — не время
«Лужским Мальдивам» 385000000 лет — не время  Адвент-календарь "Семь ипостасей Нового года"
Адвент-календарь "Семь ипостасей Нового года"  "Одуревшие от денег звездульки": Казарновская сказала жёстко. И это правда
"Одуревшие от денег звездульки": Казарновская сказала жёстко. И это правда  Старый Год и его три злые бабы
Старый Год и его три злые бабы  Про ёлки, мандарины и цвет белья
Про ёлки, мандарины и цвет белья  Ближний Восток: новые реалии
Ближний Восток: новые реалии  НАГРАДА нашла ГЕРОИНЮ
НАГРАДА нашла ГЕРОИНЮ