Троицкий Игорь Николаевич. Из записок старого физтеха 2
 jlm_taurus — 16.03.2024
И вот, собравшись с духом, однажды, после долгого отсутствия
Устинов утром приехал на предприятие и прошел в свой кабинет, где и
просидел до позднего вечера, но никто ему не позвонил, и никто к
нему не зашел. Кабинеты Устинова и Ломакина имели общую приемную.
Назавтра Никодим держал свою дверь в приемную открытой и слушал,
как секретари соединяли Ломакина с известными учеными из Академии
Наук и представителями заказчика. Он видел, как то и дело к
Ломакину заходили главные конструктора, а он, Генеральный
Конструктор, абсолютно никому не был нужен. На третий день Никодим
приказал секретарям всех, кто будет звонить Ломакину, соединять с
ним, Генеральным Конструкторам.
jlm_taurus — 16.03.2024
И вот, собравшись с духом, однажды, после долгого отсутствия
Устинов утром приехал на предприятие и прошел в свой кабинет, где и
просидел до позднего вечера, но никто ему не позвонил, и никто к
нему не зашел. Кабинеты Устинова и Ломакина имели общую приемную.
Назавтра Никодим держал свою дверь в приемную открытой и слушал,
как секретари соединяли Ломакина с известными учеными из Академии
Наук и представителями заказчика. Он видел, как то и дело к
Ломакину заходили главные конструктора, а он, Генеральный
Конструктор, абсолютно никому не был нужен. На третий день Никодим
приказал секретарям всех, кто будет звонить Ломакину, соединять с
ним, Генеральным Конструкторам.Никодим брал телефонную трубку, объяснял, что Ломакин или занят, или болен и предлагал позвонившему обсудить с ним возникшую проблему. Большинство, имея определённые договорённости с Ломакиным и, боясь как бы разговор с Устиновым их не нарушил, под тем или иным предлогом уходили от предложенных обсуждений, предпочитая дождаться “выздоровления” Ломакина, и лишь самые опытные в административных играх с энтузиазмом принимали предложение. Конечно, такая ситуация не могла понравиться Устинову, и секретари, хорошо знавшие своего главного начальника, поняли, что дни Ломакина сочтены.
С Ломакиным разделались очень просто. Частое пребывание его на полигоне, сопровождавшееся сильным возлиянием, сказалось и на его московской жизни. Иногда вечерами он выходил из своего кабинета, как говорится, навеселе. Прежде на это не обращали внимания. Но ситуация изменилась. Состоялось общее партийное собрание, на котором выступили несколько членов партии, засвидетельствовавшие, что видели на предприятии Ломакина в нетрезвом виде, а затем собрание, осудив недостойное поведение своего товарища, вынесло ему строгий выговор. Автоматически последовал приказ об освобождении его от должности заместителя Генерального Конструктора.
Если для сотрудников отдела красивая жизнь сочеталась с некоей личной заинтересованностью, обусловленной работой над дипломом, потом над кандидатской диссертацией, а для меня – работой над докторской, то начальник отдела в прямом смысле слова почивал на лаврах. Бакута устраивало всё: и служебное положение, и материальное обеспечение, и имидж учёного-теоретика, а наука его больше не интересовала.
Основным его увлечением был туризм по труднодоступным и малообитаемым местам. Бакут вместе с Игорем Матвеевым, начальником экспериментального отдела, разрабатывал возможные маршруты, собирал туристическую группу, а для финансовой и организационной поддержки привлекал Всероссийское географическое общество (ВГО). Это позволяло использовать бесплатно вертолёты для доставки их группы в необитаемые, труднодоступные места Союза, где они рыбачили и охотились.
В одну из таких экспедиций, у костра, запекая кусок свежей медвежатины, Бакуту и Матвееву пришла великолепная идея: определить место нахождения центра Советского Союза и в этом месте проводить ежегодно всесоюзный слёт туристов. Решили рассчитать этот центр как центр тяжести геометрической фигуры, имеющей границы Советского Союза. Этот центр оказался в бескрайних Сибирских болотах между Уралом и Обью. Был изготовлен специальный монумент с соответствующей надписью, дабы установить его в найденном центре.
Предварительно решили посетить вычисленное место, и несколько самых активных членов ВГО во главе с Матвеевым и Бакутом прилетели в Свердловск. Здесь обком партии устроил им грандиозный приём (ещё бы, теперь всем будет известно, что центр Советского Союза находится не где-нибудь, а в Свердловской области) и, снабдив водкой и всяческой обкомовской снедью, наших первооткрывателей погрузили в вертолёт. Обратный путь также лежал через Свердловск, где, как им обещали, должен был состояться праздничный банкет. Увы, вместо этого их прямо с вертолёта пересадили в самолёт и отправили в Москву.
На следующий день Матвеева и Бакута пригласили в ЦК КПСС, где их (как членов партии) ждали большие неприятности. Оказалось, что «Голос Америки» и радиостанция «Свобода» объявили о том, что русские установили центр Советского Союза и этим фактом стремятся закрепить за собой спорные приграничные территории и, в частности, неузаконенные границы территориальных вод. «Голоса» выразили уверенность, что соседние страны обратятся в ООН и международная общественность заставит СССР уважать суверенитет других стран. Пришлось Устинову вступиться за своих незадачливых учёных, которых, строго предупредив о недопустимости подобных открытий, в конце концов оставили в покое.
Если Ломакин был очень слабой фигурой, не способной помешать Устинову присвоить себе все заслуги по созданию лазерного локатора, то Орлов являл собой полную противоположность. Он был хорошо известен не только как учёный, но и как конструктор, награждённый за создание мощных лазерных систем звездой Героя Социалистического труда. Именно поэтому несколько лет назад Николай Устинов по рекомендации своего отца и пригласил Орлова специально с целью организации и для проведения работ по созданию лазерного оружия. Но теперь в изменившихся приоритетах столь сильная фигура Орлова могла помешать Никодиму в процессе получения будущих наград.
На семь лет старше Устинова, небольшого роста, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, которые как бы разделяли всё лицо на отдельные, но крепко склеенные между собой части, с громким, низким голосом, не позволявшим сомневаться в истинности им произносимого, с жёсткой копной волос, Виктор Константинович как нельзя более точно соответствовал своему прозвищу «Орёл». Во время войны он командовал взводом катюш и участвовал в Берлинской операции. За несколько лет работы в «Астрофизике» вместе со своим другом, доктором наук Долговым-Савельевым, он на полигоне создал макет мощного лазера, на основе которого в ближайшее время должны были начаться эксперименты по исследованию воздействия лазерного излучения на объекты военной техники.
Убрать Орлова означало бы лишить развиваемое направление сильного, квалифицированного руководителя. Поэтому Устинов решил оставить Орлова начальником СКБ, но понизить его статус как создателя лазерного оружия. Для этого он ввёл должности двух заместителей генерального конструктора, понижавшие Орлова по крайней мере на две ступени по сравнению с самим Устиновым. Первым заместителем, ответственным за все разработки НПО «Астрофизика», назначался Игорь Матвеев, а вторым заместителем, ответственным конкретно за разработку лазерного оружия, становился физтех Васильев. Кроме того, чтобы лишить Орлова роли идеолога создания лазерного оружия, из его СКБ выводились работы по воздействию лазерного излучения на объекты военной техники. Эти работы передавались вновь создаваемому научно-исследовательскому отделению (НИО), которое подчинялось Матвееву.
Теперь, после сделанных преобразований в структуре НПО, Устинову ничто не мешало приступить к активизации работ по разработке и созданию систем лазерного оружия, предназначавшегося, в принципе, для разных родов войск, но прежде всего для задач противоракетной обороны (ПРО).
Первые попытки использовать мощные лазеры для ПРО были предприняты ещё в середине 60-х годов. Тогда искали способы поражения головных частей баллистических ракет с помощью мощных лазеров на конечном участке их траектории. Расчёт базировался на том, что к этому моменту головные части уже будут опознаны и с помощью радиолокаторов, и за счёт зависания в атмосфере большинства лёгких ложных целей. Однако реализация такого подхода оказалась весьма сомнительной.
Постепенно более перспективным стало казаться поражение баллистической ракеты на начальном участке её траектории. В этой ситуации ещё не происходит разделение головных частей, они ещё не маскируются ложными целями, поражение происходит над территорией противника и, наконец, если лазер находится на космической платформе, то атмосфера минимально влияет на распространение его луча. Конечно, и это было абсолютно очевидно, что для построения подобного комплекса потребуются колоссальные затраты, необходимые для разработки соответствующих мощных лазеров и необходимых космических платформ. Поэтому говорить о реальности его создания представлялось по крайней мере некорректно. В то же время утверждать, что противник не пойдёт по этому пути, тоже было невозможно.
В результате разработчики стали продвигать сравнительно малозатратный вариант, названный асимметричным ответом. Этот вариант включал создание лазерного оружия, которое физически не уничтожает цель, а только лишает её возможности выполнить поставленную перед ней задачу. С целью анализа различных вариантов построения систем лазерного оружия, способных повысить эффективность системы ПРО, при НПО «Астрофизика» был собран специальный межведомственный координационный совет, который возглавил академик Е. П. Велихов. В народе этот совет получил название Велиховский.
Верховным органом совета был президиум, в который входили генеральные конструкторы и академики, работавшие в области ракетной и лазерной техники. Заместителем председателя стал Н. Д. Устинов, а учёным секретарём – И. Н. Матвеев. Работа совета организовывалась следующим образом: президиум заслушивал доклады ведущих специалистов и после анализа этих докладов делал соответствующие выводы, которые выносил на обсуждение всего совета.
Всё, происходившее в «Астрофизике», обсуждалось на заседаниях его научно-технического и учёного советов. Вначале, став их членом, я абсолютно не интересовался тем, что не касалось моей тематики, т. е. лазерной локации. Однако после её заката и активизации работ по лазерному оружию моё внимание всё больше и больше стали привлекать физические эффекты, сопровождающие взаимодействие мощного лазерного излучения с различными объектами, и использование этих эффектов для создания оружейных комплексов.
Но это побочное увлечение не мешало мне продолжать вести спокойную жизнь теоретика. Я читал лекции, занимался с аспирантами, писал научные статьи, подготавливал заявки на изобретения. За первой книгой по голографии последовали книги по лазерной локации и адаптивной оптике, и теперь уже без всякого дополнительного «целеуказания» в соавторах значился Устинов.
В целом «астрофизическая» жизнь была прекрасна и очень похожа на ту, которой в мои студенческие времена жил Репин, мой научный руководитель. То, о чём когда-то я и не мог мечтать, осуществилось. Казалось бы, ходи по театрам, концертам, выставкам, проводи время с друзьями и вообще наслаждайся жизнью. Но по театрам, концертам и выставкам я почему-то ходил редко, зато много времени просиживал с приятелями за преферансом. Мои партнёры по преферансу в основном были журналисты, и в процессе игры я узнавал всяческие новости и дышал воздухом из той другой жизни, которую я прежде назвал бы «живой». И надо сказать, что сравнивая их «живую жизнь» со своей, я однозначно отдавал предпочтение моей жизни в науке.
Но вот однажды, после очередной пульки, проводив своих партнёров, я никак не мог заснуть. Мне вдруг показалось, что я что-то упускаю. Что в теоретических исследованиях я начинаю повторяться, и уже никаких новых идей не появляется. А почему бы не попробовать чего-нибудь новенькое. Например, поразбираться в физике взаимодействия мощного лазерного излучения с разными объектами. Эта неожиданная мысль отогнала всякий сон, и, проворочавшись пару часов, я поднялся, сел за письменный стол, зажёг настольную лампу, взял чистый лист бумаги и написал:«Причины, по которым следует выйти из спокойной гавани теоретика и пуститься в неизвестное плавание разработчика лазерных систем».
Повод посетить Устинова назрел давно: я заканчивал новую книгу по адаптивной оптике и хотел посоветоваться относительно издательства. Никодим принял меня очень радушно, вышел из-за стола и крепко обнял. После разговора о книге я в самых общих чертах описал своё желание заняться реальным делом. Устинов улыбнулся и, заметив, что это очень своевременно, посоветовал переговорить с Матвеевым.
К Матвееву я направился с некоторой настороженностью, ибо полагал, что он не захочет оголять отдел своего друга Бакута и, следовательно, вряд ли будет мне хорошим помощником в реализации задуманных планов. Но оказалось, что я ошибся. Матвеев подробно рассказал о новых «астрофизических» проектах и в заключение предложил мне возглавить новое НИО. Предложение было столь неожиданным и столь глобальным, что первой моей реакцией был отказ. Матвеев начал уговаривать. Обосновывая свой отказ, я сослался на отсутствие опыта работ по организации экспериментов.
– Так это же прекрасно! Что может быть лучше свежего взгляда, тем более учёного, – убеждал Матвеев. – Ваши будущие подопечные – прекрасные специалисты, так что пока вы не войдёте в курс дела, они смогут поработать и самостоятельно. А то, что вы во всём разберётесь, ни Николай Дмитриевич, ни я не сомневаемся.
Ничто не действует эффективнее лести, и я согласился, но при условии, что моя лаборатория в полном составе будет переведена из отдела Бакута в моё новое НИО.– Нет проблем, – пообещал Матвеев, и мы ударили по рукам.
Так я вошёл в кабинет Матвеева начальником теоретической лаборатории, а вышел начальником одного из ведущих НИО. Произошло это в июне незадолго до запланированного ежегодного отпуска, в который я, памятуя успокаивающие слова Матвеева, и отправился, собираясь во всём разобраться после возвращения.
Назавтра после моего возвращения из отпуска Пётр Васильевич Зарубин, начальник восьмого главного управления МОП (Министерства оборонной промышленности), собирал на полигоне совещание для обсуждения состояния работ по воздействию лазерного излучения на объекты военной техники. За эти работы в моём НИО отвечали два отдела, начальниками которых были физтехи Бакеев и Федюшин. Бакеев ещё находился в отпуске, и я, забрав с собой Федюшина, рано утром на своей машине выехал на полигон.
По дороге я рассчитывал узнать у Федюшина, какие конкретно эксперименты были проведены и какие получены результаты.
– Игорь Николаевич, я всё подробно доложу на совещании, так что зачем вам слушать одно и то же дважды, – отклонил мои вопросы Федюшин и добавил: – Не волнуйтесь, я хорошо знаю Петю. Он классный мужик и единственный из всех начальников главков, кто разбирается в физике, так что всё будет в порядке.
Оказалось, что Федюшин учился на Физтехе вместе с Петром Зарубиным, и в те времена они были добрыми приятелями. Федюшин рассказал, что Петя – сын тех самых знаменитых разведчиков Василия и Елизаветы Зарубиных, которые работали в советском посольстве в Вашингтоне и смогли получить важную техническую информацию об американской атомной бомбе. Мать Пети, в девичестве Розенцвейг, до замужества с Василием Зарубиным, жила вместе с известным революционером Яковом Блюмкиным. По заданию ВЧК она следила за своим любовником, и когда узнала о его контактах с Троцким, донесла на него. Якова арестовали и расстреляли.
– Я слышал, что Зарубин – заядлый турист. Это правда? – спросил я. – Сейчас нет, а был заядлый – да ещё какой! Туризмом он занялся на старших курсах Физтеха и руководил одной из первых экспедиций спортивного общества «Буревестник», объединявшего студентов разных вузов. После окончания Физтеха Петя уехал зимовать в Антарктиду, а в конце 60-х увлёкся высотным альпинизмом. Он спасал на пике Коммунизма ректора МГУ Рема Хохлова и еле выжил со своей командой на пике Красина в тот самый ураган, в котором погибла команда Шатаевой.
Из крайнего дома вышел человек в залепленных грязью кирзовых сапогах и в широком, мятом, заплатанном пиджаке. Я посмотрел на появившегося мужика и почти бессознательно ему позавидовал. Совсем недавно я был так же свободен, как он, и так же, как он, был в полном порядке. А сейчас должен буду продемонстрировать абсолютную неосведомлённость в порученном мне деле. Да ладно бы ещё какому-то начальнику, а то ведь одному из самых первых физтехов. Чтобы как-то скоротать столь неприятное ожидание, я попытался осмыслить услышанное в дороге о Зарубине. Постепенно мои мысли сформулировались в следующий вопрос: интересно, каким вырос тот, будущая мать которого предала своего возлюбленного, а его будущий отец, зная об этом предательстве, взял её в жёны, и они всю свою дальнейшую жизнь прожили, успешно обманывая других, живя в постоянном страхе и от врагов, и от своего родного ЧК, а потом КГБ.
Мне зримо представилась коммунистическая троица двадцатого века: Лев Троцкий – Яков Блюмкин – Лиза Розенцвейг. Только теперь первым был Дьявол (мне помнилось, что по Ветхому Завету Лев ассоциировался с Сатаной), вторым был проповедник новых идей, но нашедший свою смерть не на кресте, а в застенках ЧК, а третьей была блудница, предавшая своего возлюбленного, после чего переквалифицировавшаяся в разведчицу. Столь фантастические и весьма неоднозначные размышления, не получив своего завершения, были прерваны приглашением на совещание, и я направился на ожидавшую меня Голгофу – на встречу с сыном самой девы Елизаветы.
За столом сидели командир войсковой части, два его заместителя и Зарубин. Федюшин доложил о проведённых экспериментах, после чего Зарубин открыл список боевых объектов, которые планировалось подвергнуть воздействию, и, зачитывая его, стал спрашивать о работе по каждому объекту. Когда звучало наименование неисследованного объекта и Зарубин спрашивал о причине непроведения соответствующей работы, Федюшин отвечал, что этот объект записан за отделом Бакеева и объяснение может дать только сам Бакеев. Оказалось, что работы были проведены только по нескольким объектам, основная же масса даже не была доставлена на полигон. Дочитав список до конца, Зарубин поблагодарил всех собравшихся, попрощался и со словами: «Поговорим в Москве», – сел в ожидавшую его министерскую машину и отбыл в столицу.
Вслед за Зарубиным уехали я и Федюшин, который попытался что-то объяснить, но я прервал его: «Будем следовать указанию начальника и поговорим в Москве».
На следующий день Матвеев пригласил меня к себе в кабинет, подробно расспросил о совещании и в заключение сообщил, что Зарубин потребовал для усиления контроля за работами по воздействию назначить приказом генерального конструктора ответственного за их проведение.
– Кого назначим, Федюшина или Бакеева? – спросил Матвеев.
– Меня, – ответил я сразу же.
– Зачем? – удивился Матвеев. – Они завалили работу, пусть и отвечают!
– Нет, думаю, что эксперименты ещё могут быть выполнены в срок, а так как я начальник, мне и отвечать, а если не справлюсь, то как пришёл, так и уйду, для меня это не беда.
После выхода соответствующего приказа я разослал письма к главкомам соответствующих родов войск с требованием представить на полигон все военные объекты, необходимые для экспериментов в соответствии с постановлением. Эти письма, подписанные Николаем Устиновым (хотя и не министром обороны, а всего лишь его сыном), были восприняты как приказы. В результате все требуемые изделия военной техники и обслуживающие их военные специалисты очень быстро оказались на полигоне.
Далее я разделил все изделия, подлежащие воздействию, между сотрудниками своей теоретической лаборатории, так что каждый отвечал за проведение работ по определённому конкретному изделию. Я не отстранил от работ отделы Бакеева и Федюшина, но контроль за всеми экспериментами возложил на сотрудников своей бывшей лаборатории, начальником которой стал Вячеслав Тихомиров. И так как почти все они были уже кандидатами наук, а в отделах Бакеева и Федюшина кандидатами являлись только сами начальники, то выглядело это вполне пристойно.
Эксперименты по воздействию проводились на площадках, расположенных в девственном лесу в нескольких километрах друг от друга. Каждая площадка представляла собой здание, в котором размещался лазер со всей необходимой измерительной аппаратурой. За зданием шла прорубленная в лесу трасса, вдоль которой распространялся лазерный луч. Облучение лазером реальных боевых объектов проводилось ночью в часы, когда над полигоном не находилось никаких иностранных космических объектов. Невидимый мощный лазерный луч, оставляя в воздухе отдельные яркие искры (это горели находящиеся на пути луча маленькие взвешенные в воздухе твёрдые частицы), направлялся на функционирующий боевой объект. Возникавшее при этом зрелище было просто фантастическим.
Днём, отдохнув от ночных экспериментов, все спускались в общую гостиную, где играли в шахматы или расписывали пульку. Как-то играя с докторами наук Долговым-Савельевым и Козоровицким, разработчиками уникальных лазеров, использовавшихся в наших экспериментах, я с удивлением узнал, что они никогда не бывали в Суздале. Я пообещал показать им этот уникальный город, и через пару дней мы на машине воинской части отправились в наше путешествие.
Впервые я посетил Суздаль в 1965 году и с тех пор стал частым его гостем. На моих глазах из маленького уездного городка он превратился в благоустроенный туристический центр. Всё началось с открытия кафе «Погребок», а напротив него «Опохмелочной». В «Погребке» угощали вкуснейшими блюдами настоящей русской кухни и крепкой медовухой, а напротив можно было опохмелиться русским квасом и различными рассолами.
Побродив по монастырям, мы подошли к суздальскому кремлю, где в большой полуподвальной трапезной функционировал очень приличный ресторан. Однако он оказался закрыт. Мы уже собирались сделать от ворот поворот, когда из дверей ресторана буквально выбежала к нам навстречу симпатичная молодая женщина и попросила помочь разгрузить стоявший рядом фургон. Она объяснила, что рабочие уже ушли, а машина только что пришла, и её необходимо отпустить.
Почему бы не позаниматься зарядкой, и мы дружно взялись за работу. Довольно быстро машина была разгружена, и директор пригласила «стахановцев» отобедать. Нас посадили в архиерейскую келью. На стол поставили большую сковороду жареной картошки с грибами, миску с солёными огурцами, кувшин кваса, банку медовухи и литровую бутылку «Столичной». Первый тост был за то, что мы, хилые интеллигенты, способны простым физическим трудом, своими руками (а не головой и попой) заработать на стакан водки и шикарную закуску. Второй тост – за внезапно открывшееся понимание русского мужика, который предпочитает оплату не деньгами, а бутылкой.
Келья, горящие свечи, водка, грибы, картошка, тосты. Эффект уникальности ужина усиливался ощущением сказочного единения далёкого прошлого с днём сегодняшним, сопоставления деяний монахов, трапезничавших в этих самых местах, с активностью учёных, создающих в близлежащих лесах лазерное оружие.
Покидали мы архиерейские палаты не очень уверенно, но в небывало ярком, праздничном настроении. Впереди шли я и Козоровицкий, а за нами шагах в двадцати шофёр, поддерживавший спотыкавшегося Долгова-Савельева.
На обратном пути в машине все громко и часто смеялись, вспоминая нежданно-негаданно подвернувшийся, заработанный своими руками ужин.
К Новому году, как и требовалось по плану, были проведены все эксперименты, кроме одного, включавшего облучение взлетающего вертолёта с находившимся в нём пилотом. При попадании мощного лазерного излучения в воздухозаборник происходил помпаж двигателя, и вертолёт падал. На этот заключительный эксперимент приехал сам Пётр Зарубин. Была пятница, и после завершения эксперимента Зарубин спросил, не могу ли я захватить его с собой в Москву, пояснив, что своего шофёра он хочет отпустить на выходные к родителям в Муром. Я, конечно, согласился.
Зарубин сел на переднее сиденье рядом со мной, и примерно через час мы выехали на шоссе Владимир – Москва. За это время погода сильно испортилась. Мелкий мокрый снег превратил дорогу в сплошной каток, и мы еле-еле тащились. Чтобы как-то скрасить нашу поездку, я стал рассказывать своему пассажиру о Суздале, в котором, как выяснилось, он никогда не бывал.
– Мне кажется, – сказал дотоле молчавший Зарубин, – церкви и монастыри – это попытка людей убежать от обыденности, а я скрываюсь от той же обыденности в горах. Все общепринятые представления о том, что именно тянет сильного, мужественного, человека в горы, – это не про меня. Просто, добравшись до малодоступных вершин, я как бы оказываюсь в другом мире, свободном от ограничений трёхмерного пространства и убегающего времени. А рядом нет ничего обыденного, земного.
Зарубин окольными вопросами вывел меня на воспоминания о детстве и, рассказывая о бабушке, маме, смешных проказах, я почувствовал, что вот именно это (а не какой-то там Суздаль) ему действительно интересно.
– Я вот слушаю вас и завидую, – тяжело вздохнув, прервал мою болтовню Зарубин. – У меня были Париж, Швейцария, Германия, Америка, но вот что-то похожего на ваш салтыковский дом не было. Я был лишён воздуха мальчишеской свободы. И главное (что я понял именно сейчас) – не было своего дома. Ничто не создаёт ощущения безопасности и бессознательной ребяческой веры в будущее, как твой дом. Не семья (она, конечно, важна), но нужен ещё и дом – принципиально материальное, не перемещаемое, постоянное. Когда мы окружным путём плыли в Америку через Тихий океан, японцы бомбили Пёрл-Харбор. На корабле была дикая паника, а я всё повторял: «хочу домой». Что я тогда понимал под словом дом, до сих пор не могу себе представить.
– Родительский дом – это, конечно, очень важно, особенно в детстве, но когда ты взрослеешь, он начинает ограничивать твою свободу, и детская связь с домом постепенно ослабевает. Правда, тогда появляются другие ограничители твоей свободы, в принципе, гораздо более сильные, – попытался я сказать что-нибудь «умненькое».
Какое-то время мы молча пили чай, и, чтобы как-то нарушить затянувшееся молчание, я спросил:– Пётр Васильевич, кажется, вы были одним из первых выпускников Физтеха. Интересно, каков был тогда Физтех и почему вы выбрали именно этот институт.
– Поступил я в 1951 году в МГУ на физико-технический факультет, который в сентябре этого же года был преобразован в Физтех, – начал, и как мне показалось, с удовольствием вспоминать Зарубин. – Выбрал же я этот факультет по рекомендации родителей. В это время резко увеличилась активность американцев по усовершенствованию ядерного оружия, и родители были уверены, что мне важно получить самые современные технические знания, которые необходимы и в том случае, если захочу пойти по их стопам (кажется, они об этом просто мечтали), а уж тем более, если выберу работу в той или иной области науки или техники. Как видите, я выбрал последнее и не жалею.
Эти весьма сумбурные воспоминания как-то сами собой возвратили нас ко дню сегодняшнему, и мы стали обсуждать некоторые конкретные детали проведённых экспериментов, что и продолжили в моей машине.
После этого совместного путешествия из Владимира в Москву мы общались исключительно по производственным вопросам, но мне казалось, что аура того, как «на столе, блистая, шипел вечерний самовар», всегда присутствовала между нами.
Однажды, оказавшись в кабинете Зарубина, я подарил ему книгу «Лазерная локация», в которой авторами кроме меня были генеральный конструктор и его заместитель. Зарубин поблагодарил и, взглянув на соавторов, сказал:
– Прежде в России к авторству относились более щепетильно. Думаю, всё изменилось после атомного проекта. При работе над ним пользовались информацией, полученной от разведки, и было трудно отличить её от личного вклада каждого, участвовавшего в проекте. В результате степень вклада в решённую проблему определялась уровнем руководившего начальника. При работе над атомным проектом это соответствовало реальности, но когда это правило стало повсеместным, соответствие стало нарушаться, и нынче от него ничего уже не осталось, и теперь очень часто начальник появляется в авторах только как начальник.
После назначения руководителем работ по воздействию меня ввели в состав Велиховского совета и, кроме того, я мог присутствовать на заседаниях его президиума. В процессе каждого заседания кто-то из приглашённых учёных делал доклад по заранее заявленной проблеме, и затем проходило обсуждение. Рассматривались самые различные типы лазеров, включая даже такие экзотические, как лазеры с ядерной накачкой, которые во время выстрела самоуничтожались, одновременно разрушая и несущие их космические корабли. В обсуждениях академики проявляли общую эрудицию, но никогда и никто из них не обосновывал свои суждения конкретными количественными расчётами: работали не формулы, а имя выступающего и его научный титул.
Зал, где проходили заседания президиума, представлял собой длинную комнату с большим столом, вдоль которого располагались все его члены. Приглашённые на заседание специалисты размещались на стульях, поставленных вдоль стен. Каждый член президиума имел за столом своё место. Во главе стола восседал Велихов, который на первых заседаниях держался очень скромно, старательно подчёркивая своё уважение к старшим товарищам, но от заседания к заседанию, привыкая к своей роли, всё более уверенно выполнял председательские обязанности. Место слева от Велихова занимал Устинов, а справа – Матвеев с программой заседания и другими необходимыми бумагами. Рядом с Устиновым располагались последовательно президент Академии наук Александров, академики Прохоров, Глушко. Напротив после Матвеева сидели академики Басов, Микаэлян, Челомей, член-корреспондент Тальрозе, за которым следовали менее титулованные члены президиума.
Пару раз на заседаниях появлялся академик Ю. Б. Харитон, которого все маститые члены совета называли нежно: «божий одуванчик». Он действительно полностью соответствовал своему прозвищу
Научным руководителем всей программы по воздействию являлся академик А. М. Прохоров, и после завершения экспериментов я отправился к Александру Михайловичу, чтобы утвердить подготовленный итоговый отчёт. Академик открыл первую страницу и, не читая, сразу же поставил утверждающую подпись, а когда я протянул руку, чтобы забрать отчёт, Прохоров сказал:
– Ну, а теперь садитесь и давайте разбираться. Я верю, что вы внесёте все мои исправления, а подписал я просто, чтобы уже более не возвращаться к первой странице.
Эта подчёркнуто интеллигентная демонстрация доверия к собрату по науке создала самую благоприятную атмосферу для обсуждения, которого, увы, не состоялось: несколько замечаний, связанных с грамматическими неточностями, и я получил привезённый отчёт. По возвращении в «Астрофизику» я доложил Матвееву о том, что всё в порядке – отчёт подписан. Матвеев засмеялся и рассказал с точностью до деталей, как происходило это подписание. Так что создание благоприятной атмосферы – это оказался хорошо отрепетированный спектакль.
После посещения полигона, оставался последний этап — собрать Межведомственный Координационный Совет, на котором заслушать доклад Президиума и принять решение. Впрочем, оно было известно заранее: создать кооперацию для разработки лазерного оружия в интересах ПРО и сосредоточить всё внимание на асимметричном варианте.
За три месяца до заседания Межведомственного Координационного Совета погиб Васильев, второй заместитель Генерального Конструктора.
Вместо Васильева вторым заместителем стал доктор технических наук, профессор МВТУ им. Баумана, Чемоданов. В былые времена он учился вместе с Устиновым в одной группе, а позже они поддерживали дружеские отношения. То, что Чемоданов занимался автоматическими системы и слышал о лазерах краем уха, Устинова не смущало (он сам когда-то мало слышал о лазерах), главное Чемоданов, как полагал Устинов, идеально подходил для роли — барьера, отгораживающего его от Орлова. Матвеев объяснял мне, что это человек временный и как только появится подходящая кандидатура, он испарится. Но, как я уже неоднократно замечал, человек полагает, а Бог располагает. И накануне самого заседания Совета не стало Матвеева, а Чемоданов вместо того, чтобы испариться, занял освободившееся место первого заместителя Генерального Конструктора.
В дополнение следует сказать, что после смерти министра обороны, последовавшей вскоре после несчастий, постигших «Астрофизику», Чемоданов отправил в ЦК партии письмо, в котором просил обратить внимание на полнейшую творческую несостоятельность Генерального Конструктора и его абсолютную неспособность управлять коллективом выдающихся учёных. Президиум Велиховского Совета дал заключение о соответствии Николая Устинова занимаемой должности, но бывшие сподвижники отца по партии не приняли во внимание подписанную Велиховым бумагу, и сыну пришлось покинуть «Астрофизику». Произошло это в 1986 году, а через год умер В.К. Орлов.
«Астрофизика» рухнула, не выдержав воровства и бедности 90-х. «Астрофизическая» пыль, возникшая на развалинах былого гиганта, ещё какое-то время кучковалась, но и она вскоре рассеялась, оставив после себя лишь одни воспоминания.
|
|
</> |

.jpeg) GetExperience: бронирование авторских экскурсий от местных гидов по всему миру
GetExperience: бронирование авторских экскурсий от местных гидов по всему миру  Новости дружеского вооружения. Китайцы продолжают «допиливать» J-31, поменяв
Новости дружеского вооружения. Китайцы продолжают «допиливать» J-31, поменяв  Расчет боевой машины РСЗО «Град» под командованием гвардии старшего сержанта
Расчет боевой машины РСЗО «Град» под командованием гвардии старшего сержанта  Про самого бедного президента, не бравшего взятки, раздевавшего чиновников,
Про самого бедного президента, не бравшего взятки, раздевавшего чиновников, 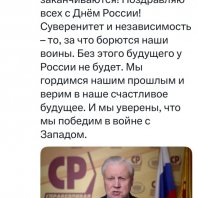 Праздничное
Праздничное  Без названия
Без названия  Арктика. Часть I. Свалбард, Ню-Олессун.
Арктика. Часть I. Свалбард, Ню-Олессун.  Кронпринц Кристиан вернулся на музыкальный фестиваль в Роскилле
Кронпринц Кристиан вернулся на музыкальный фестиваль в Роскилле  Случайное фото
Случайное фото 



