Трансильвания — край восставших мертвецов
 sergeytsvetkov — 20.11.2025
sergeytsvetkov — 20.11.2025

Сегодня мы погрузимся в один из самых мрачных и загадочных эпизодов европейской истории XVIII века – эпизод, лежащий на стыке большой политики, суеверий и робких проблесков рациональной науки. Это история не о вампирах из романов или фильмов, а о реальной панике, охватившей целые регионы, о власти страха и о попытке империи понять и обуздать необъяснимое. Это история о том, как зияющая пустота, оставленная в сердцах и на картах после войны, стала питательной средой для древних кошмаров.

Часть I: Трансильванский кошмар. Кавник, 1753
1750-е годы, Трансильвания. Для австрийской короны это была провинция, богатая ресурсами, в первую очередь рудами, но населенная пестрым конгломератом народов: румынами, секеями, саксами, влахами, венграми. Это был край древних верований, переплетений православия, католичества и протестантизма, где подспудно жили дохристианские культы и представления о мире. Именно здесь, в этой уникальной этнографической и духовной лаборатории, и произошли события, заставившие Вену встревожиться.
Важно подчеркнуть: местные верования в восставших мертвецов, известных как «морой» (moroii) или «стригои», в середине XVIII века никак не были связаны с фигурой Влада Цепеша, Дракулы. Этот литературный образ, созданный Брэмом Стокером лишь на рубеже XIX-XX веков, будет проецирован на прошлое задним числом. Реальность же была и проще, и страшнее.

Кавник сегодня
Первые тревожные рапорты поступили в 1753 году из небольшого поселения Кавник (совр. Румыния). Ситуация была классической для «вампирической» паники: люди в деревне стали умирать слишком быстро, один за другим. Цепь внезапных смертей, часто сопровождавшихся кратковременными болезнями и истощением, не укладывалась в привычные рамки. Сельские власти, обуреваемые страхом и отчаянием, не стали ждать указаний сверху. Они поручили расследовать дело двум местным хирургам и аптекарю.
Их действия были решительными и прямолинейными: они приступили к эксгумации недавно похороненных усопших. То, что они обнаружили в одной из могил, повергло их в ужас и, по всей видимости, подтвердило худшие опасения. Тело одного из покойников, по их описаниям, казалось иссушенным, а вместо крови в нем находилась какая-то мутная жидкость, похожая на воду. Для людей того времени кровь была символом и носителем жизненной силы («сока жизни»). Стало быть, мертвец был лишен своей собственной крови, которую заместила некая инфернальная субстанция.
Трагедия усугубилась почти немедленно. Один из участников этой мрачной эксгумации – тот, кто осмелился вскрыть «проклятый» труп, – скоропостижно скончался спустя короткое время. Цепь причинно-следственных связей для жителей Кавника выстроилась мгновенно и неумолимо: он стал жертвой проклятия или мести того самого бледнокровного покойника, которого они потревожили. Деревня погрузилась в пучину паники. Страх, как это часто бывает, искал виноватых, и взоры людей обратились к мертвым.
Их нашли. Вернее, нашли то, что от них осталось. Виновными были назначены две женщины. Однако первая, Анна Тоннер, была посмертно оправдана самой природой: ее тело, когда его извлекли из земли, оказалось в состоянии естественного и ожидаемого разложения. Это сняло с нее все подозрения. Зато вторая, Доротея Пихсин, стала центральной фигурой этого дела.
Ее труп пролежал в могиле уже 129 дней. После эксгумации разнеслась весть, что он «свеж, как роза». Конечно, это была метафора, рожденная в хаосе ужаса. Более детальные описания, дошедшие до нас, рисуют иную картину: ее лицо было изувечено процессами разложения, и лишь руки и ноги сохранили подобие целостности. Но в атмосфере всеобщей истерии такие нюансы уже не имели значения.
Были и другие, казалось бы, зловещие детали. Женщина, словно мифический нахцерер (существо из немецкого фольклора, пожирающее свой саван в могиле), проглотила часть собственного погребального савана. Был ли он пропитан кровью или просто разложившимися телесными выделениями – не столь важно. Важен был сам факт: она «поедала» свою оболочку. Последним, решающим «доказательством» стало вскрытие: грудь покойной, как выяснилось, была полна некой красной жидкости, которую безоговорочно идентифицировали как кровь.
Дальнейших исследований не потребовалось. Властям хватило этих улик. Ситуация усугублялась внешним давлением: соседние поселения, узнав о «заразе» в Кавнике, ввели карантин. Деревня оказалась в изоляции, ее экономическая и социальная жизнь была парализована. Ради выживания общины, ради снятия этого дамоклова меча, нужно было как можно скорее положить конец мрачному делу. Требовался ритуал очищения.
Было принято соломоново решение: провести посмертную казнь архивампира, или, если точнее, архивампирши. Тело Доротеи Пихсин было публично предано огню. Этот акт символического уничтожения, уходящий корнями в глубочайшую древность, должен был навсегда стереть угрозу. И, по свидетельствам современников, он возымел действие. Когда охваченное пламенем тело было объято огнем, из него, как утверждали очевидцы, хлынул поток крови. Этот жуткий феномен (объяснимый с научной точки зрения скоплением газов и разжижением тканей) был воспринят как окончательное доказательство ее вины и момент изгнания зла. После этого смерти в деревне прекратились. Или, если быть абсолютно точным, их стало значительно меньше. Что, впрочем, окончательно убедило местные власти в правильности их стратегии. Казалось, кризис миновал.
Часть II: Империя наносит ответный удар. Миссия доктора Таллара
Но и на этот раз оптимизм оказался преждевременным. 1753 год еще не успел завершиться, как новые тревожные сигналы поступили из соседнего региона – Баната. Здесь, в нескольких поселениях почти одновременно, вспыхнула аналогичная паника. Мертвецы стали подниматься из могил, терроризируя живых и вызывая новые смерти.
Ситуация, должно быть, встревожила саму Вену. Впервые «эпидемия вампиризма» предстала не как локальное и маргинальное суеверие где-то на далеких окраинах, а как системная угроза. Она оказывалась обширнее, чем предполагали власти, и, что было особенно важно, она грозила нарушить или даже полностью остановить добычу полезных ископаемых в этом богатом рудниками регионе. Банат был экономически ценным активом империи. Социальный взрыв, вызванный паникой, карантинами и самосудом, мог нанести ощутимый финансовый ущерб. Призраки стали проблемой государственной важности.
Императрица Мария Терезия, женщина прагматичная и решительная, не медлила. Она понимала, что полумеры и местные инициативы лишь подливают масла в огонь. Требовался принципиально иной подход. Императрица назначила специальную комиссию из трех человек с мандатом разобраться в происходящем на месте, тщательно и беспристрастно. Мы не знаем, какие именно дискуссии велись тогда при дворе, какие аргументы звучали в роскошных залах Хофбурга. Но сам факт, что комиссию создали именно в Вене и отправили совершить «панорамный» осмотр в разные уголки Трансильвании и Баната, красноречиво говорит о многом. Целью было не просто найти ad hoc решение для той или иной конкретной общины (как делалось раньше, в том числе и в Кавнике), а собрать обширные и достоверные сведения, на основе которых можно было бы разработать более масштабные, официальные и, что ключевое, рациональные меры по умиротворению региона.
Главой этой небольшой, но исторически значимой группы расследователей был назначен военный хирург Георг Таллар. Это был практик, закаленный в полевых условиях. И что особенно символично, он уже имел личный, непосредственный опыт столкновения с феноменом «восставших мертвецов». Молодым хирургом, служа в Трансильвании, он по приказу капитана замка Дева был вынужден эксгумировать и вскрыть тело предполагаемого мороя. Мотивация капитана была отнюдь не научной и не следственной. Он, поддавшись суевериям, верил, что в желудке такого ожившего покойника можно найти магические травы, которыми сам Сатана, как тогда полагали, оживлял трупы и управлял ими на расстоянии. Капитан мечтал заполучить этот «вампирический безоар» – мифический магический камень – чтобы творить с его помощью «разные чудеса». Сокровище, разумеется, так и не нашли. Но Таллар, повидавший на своем веку немало мертвецов, навсегда запомнил тошнотворный, невыносимый смрад, с которым ему пришлось мириться во время тех неудачных, абсурдных поисков.
И вот теперь, три десятилетия спустя, он снова оказался в Трансильвании, но уже в ином статусе – не как пассивный исполнитель прихоти суеверного начальника, а как полномочный представитель самой императрицы. Перед ним стояла сложнейшая задача: что он, человек науки (науки той эпохи), мог противопоставить множеству свидетельств, рассказов, панических рапортов, которые, как он интуитивно понимал, вряд ли все были чистой выдумкой? В его отчете, озаглавленном «Visum Repertum Anatomico-Chyrurgicum» («Анатомо-хирургическое донесение»), мы находим попытку ответить на этот вопрос.
Вместе с Талларом в комиссию вошли врач и священник. Их совместная работа должна была придать расследованию всесторонность и авторитетность.
«Visum Repertum» Таллара – это полноценное, хотя и написанное в рамках своего времени, медицинское и, что для историков, особенно ценно, этнографическое исследование Валахии, Баната и Трансильвании. Бесценный том, увы, почти забытый и затерявшийся в архивах. Опубликован он был с большим опозданием, лишь в 1784 году, когда описанные в нем события уже стали достоянием истории.
Часть III: Анатомия паники. Расследование Таллара и его выводы
Итак, что же обнаружил и о чем заключил Георг Таллар? Его отчет – это образец зарождающегося научного подхода, попытка эмпирической проверки мифа. Он оглядывался по сторонам и пытался найти рациональные объяснения каждому из элементов «вампирического» комплекса. Одни его гипотезы кажутся нам сегодня более убедительными, другие – менее, но все они демонстрируют его проницательность, наблюдательность и стремление опереться на факты, а не на предрассудки.
Прежде всего, Таллар был практиком. Он стремился собирать доказательства на месте, проводить собственные наблюдения и даже, насколько это было возможно в тех условиях, ставить небольшие эксперименты. Например, он исследовал кровь, взятую у эксгумированных тел предполагаемых возвращенцев, и с удовлетворением констатировал, что в ней не было «ничего, совершенно ничего живого» – никаких признаков особой, демонической активности. Он противопоставлял свой полевой метод «салонным теориям», каких уже сотни ходило по просвещенной Европе, порождая моду на вампиров в литературе и светских беседах.
Давайте последовательно разберем, как Таллар подошел к развенчанию основных суеверных представлений.
1. Миф о «активных» ночах и магических указателях.
В деревнях бытовало устойчивое поверье, что гиперактивные покойники, выходящие по ночам из могил, возвращаются под землю только по субботам. Логика Таллара была железной: если это так, то в любой другой день недели могилы должны быть пусты. Но почему же тогда он, раскапывавший захоронения в самые разные дни, всегда находил тела на месте? Простое наблюдение опровергало сложное мифологическое построение.
Был и другой любопытный обычай – так называемая «проба с вороным жеребцом». Считалось, что чистокровный вороной конь, обладающий, по поверью, особой чистотой и чувствительностью к нечисти, ни за что не пройдет между могилами предполагаемых вампиров. Таким образом, животное должно было само указать на источник зла. Таллар провел и этот эксперимент. К его удовлетворению, его собственный конь шел вперед, пусть и с некоторым сопротивлением. Хирург сделал прагматичное предположение: возможно, животное отпугивал не мистический ужас, а вполне естественный и отталкивающий запах разложения, который мог быть сильнее возле свежих или «подозрительных» могил.
2. Загадка могильных «нор».
Одним из самых интригующих материальных «доказательств» существования вампиров были небольшие отверстия в земле над могилами или в их нижней части. Эти «лунки» или «норы», как утверждали местные жители, служили ненавистным подземным обитателям для входа и выхода, неким порталом между миром живых и миром мертвых. Этот феномен так увлекал некоторых современников Таллара, например, известного бенедиктинского ученого Дом Огюстена Кальме, написавшего целый трактат о вампирах.
Таллар подошел к вопросу с присущей ему дотошностью. Он действительно находил такие отверстия. Однако, расспросив людей подробнее и изучив погребальные практики, он пришел к совершенно иному выводу. Эти «норы» были всего лишь следами от кольев и заостренных шестов, которые вбивали в землю сразу после погребения «подозрительного» усопшего. Это был превентивный ритуал: считалось, что таким можно «пригвоздить» мертвеца к земле, предотвратив его возвращение. Со временем колья извлекали или они сгнивали, оставляя после себя те самые загадочные ходы, которые народная молва later интерпретировала как следы активности самого покойника.
3. Медицинские гипотезы: эпидемия или социальная патология?
Что касается популярной среди некоторых медиков гипотезы о том, что за «вампиризмом» скрывается некая заразная болезнь, то Таллар относился к ней с изрядным скептицизмом. Его главным контраргументом была избирательность «заразы». Почему, спрашивал он, заболевали и умирали исключительно местные жители, в то время как расквартированные в том же регионе австрийские солдаты оставались полностью здоровыми? Если бы это была настоящая эпидемия – чума, тиф, оспа – она не делала бы таких различий по национальному или социальному признаку. Это никак не вписывалось в известные к тому времени эпидемиологические закономерности.
Вместо этого Таллар выдвинул гораздо более глубокую и, как нам сегодня кажется, верную социально-медицинскую гипотезу. Причиной катастрофы, по его мнению, было тяжелейшее положение в этих деревнях. Речь шла не только о хронической нищете и недоедании, но и о специфическом образе жизни, обусловленном религиозными практиками. Он обратил внимание на строгие и длительные пищевые запреты, наложенные Православной церковью, в частности, на многодневные предрождественские посты.
Картина, которую он реконструировал, была удручающей. Люди, и без того истощенные тяжелым трудом и скудным рационом, на протяжении многих недель соблюдали строжайший пост, лишая организм необходимых белков, жиров и витаминов. А затем, сразу после Рождества, следовал резкий переход к обильной, тяжелой пище – свинине, бобам, грубому хлебу. Для ослабленного организма такой пищевой шок был сродни катастрофе. Он мог вызывать острые желудочно-кишечные расстройства, нарушения обмена веществ, резкие скачки давления, что в конечном итоге приводило к летальному исходу, особенно среди детей, стариков и тех, кто был изначально слаб.
Сам Таллар и некоторые его современники-наблюдатели проводили любопытные культурные параллели. Они отмечали, что подобные истории с «вампирами» чаще происходят в регионах, «где пьют слишком хмельное пиво и едят грубую пищу – горох, бобы, тяжелый хлеб и свинину». Это были те же земли (включая германские), где постоянно жаловались на кошмары и ночные удушения (связанные, как мы теперь знаем, с апноэ и нарушениями пищеварения). А вот в Италии и Франции, напротив, такие явления встречались реже, якобы потому, что там в ходу был более легкий, сбалансированный рацион на основе вина, оливкового масла, овощей и фруктов, а люди считались более деятельными и общительными.
Таким образом, по мнению Таллара, рождественский период становился излюбленным временем для «возвращения мертвецов» не потому, что демоны активизировались в святки, а по сугубо физиологическим причинам. Ослабленные постом люди массово умирали от последствий обжорства, а их смерть, следующая одна за другой, интерпретировалась в рамках привычного культурного кода: это не мы сами себя убили неразумным поведением, это оживший сосед пришел забрать наши души.
Итак, Таллар сформулировал простое и, на его взгляд, эффективное решение проблемы. Оно было не экзорцистским, а медицинским: чтобы прекратить череду смертей, достаточно было очистить организм с помощью рвотных средств и кровопускания (стандартные процедуры медицины того времени), а затем наладить правильный, умеренный режим питания. Другие, гораздо позже, предложили бы принимать витамины, но суть оставалась прежней: проблема имела физиологическую, а не сверхъестественную природу.
Часть IV: Сквозь призму веков. Исторические интерпретации феномена
Спустя столетия, обладая куда более широкими знаниями, мы можем предложить более детальный анализ того, что же на самом деле происходило в Трансильвании и Банате в 1750-х годах. Гипотеза Таллара о связи «вампиризма» с питанием и социальными условиями была гениальной догадкой, но современная историческая наука и медицина позволяют уточнить и углубить его выводы.
Что же убивало людей?
Современные историки и палеопатологи выдвигают несколько гипотез о природе тех загадочных смертей.
Инфекционные заболевания. В некоторых случаях (но явно не во всех) причиной могла быть бубонная чума, которая носила эпизодический характер. Другой кандидат – особая, быстротечная форма легочной или нервной чумы. Нельзя сбрасывать со счетов и такие болезни, как сыпной тиф, малярия, туберкулез (чахотка) или сибирская язва. Точно определить «диагноз» post factum, спустя 250 лет, в каждом отдельном случае невозможно.
Алиментарные заболевания. Здесь гипотеза Таллара находит свое подтверждение. Речь могла идти о пеллагре – болезни, вызываемой дефицитом ниацина (витамина B3) и триптофана, которая была широко распространена в регионах, где основу рациона составляла кукуруза (в Трансильвании она уже была известна). Симптомы пеллагры – дерматит, диарея, деменция, бессонница и кошмары – вполне могли интерпретироваться как «нападение» мертвеца, высасывающего жизненные силы.
Бешенство. Агрессивное поведение, свето- и водобоязнь, спазмы гортани у некоторых умирающих могли быть спровоцированы бешенством, переносимым дикими животными.
Отравления. Употребление в пищу зерна, пораженного спорыньей (грибком-паразитом), вызывало эрготизм, известный как «антонов огонь». Это заболевание сопровождается галлюцинациями, судорогами, гангреной конечностей и психическими расстройствами, что легко могло быть воспринято как одержимость или нападение нечистой силы.
Важно понимать: скорее всего, не было какой-то одной-единственной «болезни вампиров». Людей, уже ослабленных хроническим недоеданием, авитаминозами, тяжелым трудом и антисанитарией, поражал целый букет недугов. Долгие зимние посты были тем спусковым крючком, который окончательно подрывал иммунитет и делал организм беззащитным перед любой инфекцией или интоксикацией.
Психология и социология паники.
Но одних лишь болезней было недостаточно для возникновения полномасштабной «вампирской эпидемии». Ключевую роль играл социально-психологический фактор.
Можно пойти еще дальше и предположить, что иной раз не было вообще никакой физической «заразы». Коллективный психоз, истерия могли быть спровоцированы всего лишь несколькими случайными смертями, вызванными чем угодно. Ведь связь между этими смертями не устанавливалась научным способом. Она держалась исключительно на утверждениях вроде: «Мой родственник умер через три дня после твоего, и, даже если они не знали друг друга, я обвиняю твоего покойника в том, что он утащил моего на тот свет». А зачастую не было и этого.
Порой идея «вампира» возникала не из-за чьей-то конкретной смерти, а просто из-за коллективных видений, ночных кошмаров или череды несчастий, обрушившихся на деревню (неурожай, падеж скота). Вера в возвращенцев оказывалась, по сути, порождением нарратива о «зле», удобной и культурно укорененной моделью объяснения необъяснимых страданий. Этот нарратив иногда накладывался на реальные, подозрительные смерти, а иногда существовал и сам по себе, как самоценный миф, готовый к активации в любой момент кризиса.
Развенчание современного мифа: Порфирия.
Здесь стоит сделать важное отступление и развеять один популярный, но совершенно ненаучный миф, кочующий по страницам бульварной литературы и псевдодокументальных фильмов с 1980-х годов. Речь идет об экстравагантной гипотезе, согласно которой «вампирическое состояние» объяснялось эритропоэтической порфирией.
Это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается синтез гема, компонента гемоглобина. Его симптомы действительно включают тяжелую анемию (бледность), светобоязнь (непереносимость солнечного света), покраснение зубов и мочи, а также поражения кожи. Некоторые энтузиасты предположили, что в прошлом такие больные, возможно, интуитивно пытались облегчить свои страдания, употребляя кровь (животную или, в отчаянии, человеческую), чтобы восполнить дефицит.
Однако эта, казалось бы, занимательная гипотеза не имеет под собой ни научной основы, ни практической пользы для историка.
Во-первых, эритропоэтическая порфирия – болезнь врожденная и крайне редкая. Она не может носить характер эпидемии, охватывающей целые деревни, как это было в Трансильвании.
Во-вторых, и это главное, она объясняет поведение не реальных «вампиров» XVIII века, а их литературных наследников – образов, созданных в викторианскую эпоху, прежде всего графа Дракулы Брэма Стокера. Именно Дракула бежит от солнечного света, обладает сверхъестественной бледностью и аристократическими манерами. А вот бедные, полуголодные крестьяне из трансильванских или сербских кошмаров вели себя иначе: они были «трупными», надутыми, с красными лицами, они пожирали свой саван и нападали на людей, чтобы «выпить» их жизненную силу, а не кровь как биологическую субстанцию.
В итоге гипотеза о порфирии – это еще одна успокаивающая, но ложная попытка объяснить сложный историко-культурный феномен с помощью простого медицинского «ярлыка». Это своего рода современный редукционизм, унаследовавший черты редукционизма прошлых веков. И прошлые, и современные упрощенцы радуются «простым решениям», даже не поняв самой проблемы во всей ее многогранности. Болезни, конечно, были одним из компонентов этой мозаики, но истинные причины феномена лежат в области социальной психологии, культурной антропологии, экономики и истории ментальностей.
Эпилог: Тень, отбрасываемая в будущее
Дело Таллара и его «Visum Repertum» не положили конец верованиям в вампиров. Суеверия, питаемые страхом смерти, социальной нестабильностью и бедностью, оказались живучими. Однако его миссия знаменовала собой важный поворотный пункт. Она показала, что имперская власть более не намерена пассивно наблюдать за вспышками иррационального насилия или потакать им. Отныне государство, вооруженное зарождающимся научным методом, будет пытаться наводить порядок не только среди живых, но и в отношениях с мертвыми.
5 марта 1755 года, во многом благодаря материалам, собранным Талларом и другими, императрица Мария Терезия подписала указ, который можно считать символической точкой в истории «великой вампирской истерии». Указ запрещал все традиционные практики борьбы с вампирами: эксгумации, осмотр трупов некомпетентными лицами, протыкание тел кольями, обезглавливание и сожжение. Отныне подобные действия считались суеверием, убийством и осквернением тел умерших и карались по закону. Расследование любых подозрительных смертей передавалось в ведение официальных лиц – врачей и священников.
Это был триумф рациональности, пусть и неполный и хрупкий. Государство в лице просвещенного абсолютизма объявило войну призракам, населявшим сознание его подданных. И в каком-то смысле оно победило, вытеснив их из сферы публичного права и официальной медицины обратно в темные углы фольклора и художественной литературы, где они и пребывают по сей день.
***
Приобретайте мои книги в электронной и бумажной версии!
Мои книги в электронном виде (в 4-5 раз дешевле бумажных версий).
Вы можете заказать у меня книгу с дарственной надписью — себе или в подарок.
Заказы принимаю на мой мейл [email protected]
«Последняя война Российской империи» (описание)

«Суворов — от победы к победе».


 Фильмы о футболе, которые стоит посмотреть каждому фанату
Фильмы о футболе, которые стоит посмотреть каждому фанату  Об универсальной идее христианства, как мировой религии
Об универсальной идее христианства, как мировой религии  Удачный кадр
Удачный кадр  Разное
Разное  Куда они бежать будут, когда все закончится?
Куда они бежать будут, когда все закончится? 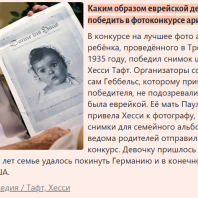 Вот это да!
Вот это да!  Опасный парадокс современной России
Опасный парадокс современной России  Минский вояж. 2025. 2. Проспект Независимости и улица Карла Маркса — 2
Минский вояж. 2025. 2. Проспект Независимости и улица Карла Маркса — 2  Ст.м. ЗИЛ. Часть 2
Ст.м. ЗИЛ. Часть 2 



