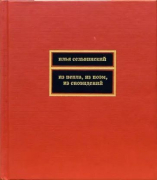Сергей Соловьев в цитатах
 humus — 13.12.2025
humus — 13.12.2025
"Больше самого Парижа запомнился тогда фильм Бертолуччи «Последнее танго в Париже», запретный для нас не только в Москве, но и в самом Париже… Таясь, мы пошли с Габриловичем смотреть его в кинотеатр. Фильм на нас произвел столь же новое и тоже шоковое впечатление, что и витрины киосков с тысячами голых женских тел. Пуританство, царившее у нас на Родине, было круче самого крутого арабского: когда на экране по чьему*то дикому недосмотру вдруг появлялась вполне невинная обнаженная женская грудь, в зале наступала страшная, сверхнапряженная, нечеловеческая тишина… А тут бертолуччиевское «Танго», даже в условиях официально разрешенной порнухи рассчитанное все-таки еще и на некий эротический шок для зрителя. Но в отличие от продукции, выставленной в парижских лотках ихней «Сюзпечати», это ясно было сразу, «Танго» прежде всего было великолепным, тончайшим, изысканнейшим произведением искусства.
Поразительным был в этом фильме и обожаемый мной по «Трамваю „Желание"» Марлон Брандо, и Мария Шнайдер, и волшебная музыка… Никогда не смогу забыть, скажем, сцену в танцевальном зале — некий выдающийся и доведенный до совершенства парафраз схожей сцены в бертоллучиевском же грандиозном «Конформисте». Как ни странно, но «Париж» Бертолуччи оставил во мне впечатление даже более сильное, чем сам натуральный Париж: отчего-то его Париж на экране был даже более Парижем, чем тот город, который мы вместе с «мосфильмовским» инженером имели возможность наблюдать. Реальность снова вдруг оказывалась менее реальной, чем иллюзорный экранный мир…
После Парижа — Прованс: Марсель, Авиньон, Арль… Потом Канн — еще без фестивального дворца, еще не сегодняшний фарцовочно-шикарный, еще не обосранный рекламными лошадями из России, щедро завезенными на какой-то из фестивалей последним советским прокатчиком Таги-Заде, а тихий, очаровательно-провинциальный… Рядом — Ницца, заваленная душистым влажным морем цветов. Чуть раньше была марсельская статуя Христа, высоко вознесенная над бухтой и над городом… Сначала мы увидели ее издали, от бухты — Христос будто плыл, невесомо парил высоко в прозрачном небе, среди вечерних золотистых облаков. Наутро нас повезли петлистой горной дорогой к основанию статуи. Бухта аккуратным темно-синим блюдечком лежала внизу.
Потом туристский автобус должен был отвезти нас назад, но мне так захотелось вдруг спуститься вниз пешком. Я сообщил инженеру, что спущусь в город самостоятельно, почему-то он отнесся к этому почти безразлично: логичного опасения, что таким образом я навек схильну от совдепов, он почему-то никак не выказал — ни словом, ни взглядом, ни вздохом. Евгений Иосифович Габрилович, которому тогда уже заехало за седьмой десяток, попросил взять его в спутники, убеждал, что не будет в тягость. Спускались до бухты мы с ним часа два с половиной, дорогой он рассказывал мне разные удивительные разности, и не о Франции совсем — о сталинских временах, о киношных увлечениях вождя. За эту дорогу мы почти подружились. С ним связано и еще одно сильное впечатление от той давней поездки — посещение игорного дома в Монте-Карло. Это сейчас количество казино в Москве вроде бы даже превышает их количество во всей Европе, а тогда публичная «игра на деньги» была для советского человека запретнейшим
тайным плодом, едва ли не круче прилюдно выставленной напоказ голой женской задницы. В холле роскошного казино старинной затейливой архитектуры для увертюры рядком были выстроены американские «однорукие бандиты», к которым нас беспрепятственно допустили. Дальше, в прохладные, полные живой зелени и тайн залы, пройти мы не смогли. Лощеный служитель вежливо объяснил немного знавшему по-французски Габриловичу, что мы не одеты подобающим образом. Я заскучал, скис и уже хотел повернуть назад. Но мой спутник не на шутку уперся.
— Где тут самый большой игорный начальник?..
Приведи начальника — довольно большого лысого зарубежного мужчину, среди бела дня облаченного в смокинг и бабочку. Габрилович что*то стал ему горячо втолковывать, после чего тот, преданно пуча на нас глаза, уважительно склонил перед нами лысину и бесшумно распахнул громадные стеклянные двери, ведущие в развратные святая святых.
— Что вы такого ему сказали?
— Я ему объяснил, что мы с тобой русские писатели, и, между прочим, напомнил, какое бешеное количество денег просадили тут наши коллеги, взять хотя бы только одного Федор Михайловича… И что мы с тобой в связи с этим вполне имеем право спокойно и обстоятельно осмотреть, в какой обстановке все это происходило…
Мы бесшумно вплыли с маэстро в таинственное светло-зеленое царство, накрытое сверху огромным матовым стеклянным колпаком. Через колпак к игорным столам, к коврам падал нежный, неяркий, затухающий книзу хамдамовский свет. У столов, тихо и тупо упираясь остекленевшими глазами в алое, зеленое и голубое сукно, расчерченное квадратиками и помеченное цифрами, выглядящими здесь как таинственные каббалистические знаки сидели совершеннейшие гуммозные живые трупы, точь-в-точь как изысканно подобранная массовка Феллини. Какие-то седые расфуфыренные старухи в буклях, бриллиантах и с мундштуками, седые, до желтизны набриолиненные старики, молодые люди с полубезумными, очерченными синими кругами глазами. Но более всего поразило меня тогда невиданное мастерство тамошних крупье, та изысканная ловкость, с которой они запускали рулетку, закидывали шарик, бросали фишки, длинной лопаткой безразлично сбрасывали с кона в какую-то яму в столе сумасшедший выигрыш…
Еще из той поездки я почему-то до сих пор запомнил золотой свет в длиннейшем туннеле, куда почти сразу от аэропорта Орли нырнул наш автомобиль. Я хорошо знал, что в таких туннелях сумеречно и серо, из бетона лезет ржавая арматура… А тут вместо всего этого, как бы из-под земли даже, неизвестно откуда взявшийся, льется ровный праздничный золотой свет…
Из третьего моего путешествия — в Западный Берлин со «Ста днями после детства» — тоже ничего не помню, кроме своих переживаний по поводу предстоящего просмотра и по поводу того, скольких иностранных дураков заманит зрелище убогих пионерских сцен из нашей убогой совдеповской жизни.
Прежде чем оказаться в Западном Берлине, мы приземлились в Берлине Восточном и ехали через весь город, жутко похожий на какую*то из наших тогдашних прибалтийских столиц: то же тоскливое однообразное убожество серых домов, тоскливые серые люди. Минут через двадцать мы доехали до шлагбаума, показали какие*то бумажки и въехали в необыкновенный праздник жизни. Был 1975 год, Берлин тогда не был так сильно наводнен наемными рабочими со всех стран мира, и облик его был совсем другим. Фестиваль проводился не зимой, как сейчас, а в мае. Город запомнился светлым-светлым, прозрачным, цветущим, поражающим обилием садов и зелени. И еще запомнилось как одно из волшебных его свойств то, что бесконечной вереницей по городу двигался свет: это автомобили ехали днем с включенными фарами.
Я все же предпринял попытку вырваться из железных пут фестивально-«совэкспортфильмовской» программы, съездил в Далем, где меня поразила пустота залов: по музею, набитому шедеврами живописи, бродило, наверное, не больше десятка человек. И это при том, что вход был бесплатным. Человеку, приехавшему из страны, где на каждую новую выставку в музее Пушкина выстраивалась очередь, это казалось непостижимым.
О перипетиях своей фестивальной судьбы в Западном Берлине я уже достаточно рассказал и, конечно, каждый раз попадая сегодня в этот город, благодарю судьбу за когда*то полученную здесь награду: она очень сильно изменила отношение ко мне, помогла мне жить и работать так, как мне хочется, а не так, как хочется дяде-начальнику или дяде-с-деньгами.
Потом со «Ста днями после детства» я попал и в США, в поездку, которую никогда не забуду, из которой вынес большую любовь к этой стране…
Вдруг позвонил помощник Ермаша:
— Сергей Александрович, вы летите на фестиваль в Сан-Франциско.
Естественно, я страшно обрадовался, сдал фотокарточку в загранотдел комитета, кал, мочу и кровь — в поликлинику (к выезду тогда готовились обстоятельно), делал все это с присущим исключительно советскому человеку чувством глубокого удовлетворения. Фестиваль брал меня на свое полное обеспечение, комитет оплачивал дорогу, предстоящая поездка и само слово «Сан-Франциско» кружили голову. Я спокойно и радостно ждал на даче предстоящей поездки, дописывая одновременно сценарий для совместной постановки с Японией. В Штаты я был приглашен на две недели, сценарий надо было сдать до отъезда.
Накануне отлета я позвонил в Госкино.
— Кто в составе делегации?
— Нет никакой делегации. Вы летите один.
Мне стало не по себе.
— Как же это я один долечу?
— А почему не долетите? Мы вам дадим немножко денежек на пересадку.
От растерянности я даже дозвонился до Ермаша:
— Филипп Тимофеевич! Я думал — будет делегация, будет переводчик!
— Старик, что ты так разволновался? Мы что, предлагаем тебе лететь в качестве пилота? Самолет поведут летчики, а ты сиди себе, кайфуй, пересядешь, тебя встретят, попадешь в чудесную жизнь. Все будет хорошо, желаю интересных встреч.
Его слова слегка успокоили. Я отправился в Госкино получать билет и «немножко денежек на пересадку» — за ними пришлось ехать на машине куда-то в банк, который оказался закрыт, потом еще куда-то; после долгих мотаний в сопровождении референта я наконец получил десять долларов.
Десять долларов тогда весили несколько больше, чем сейчас, вроде бы их должно было хватить. Подкупить еще сколько*то на свои рубли категорически не разрешалось: это подпадало под статью о валютной спекуляции. Еще до меня дошло: а как же пересесть, не зная по-английски ни слова? Сказал об этом в зарубежном отделе. Сначала меня засрамили за незнание такого простого языка, потом кто-то предложил гениальное решение:
— Говори все вопросы, какие у тебя могут возникнуть, — мы их тебе запишем на бумажке по-английски и по-русски.
— Ну, например, где мой багаж?
— Вэар из май бэг?
Это успокоило. Я распихал шпаргалки-карточки по карманам, взял билет, десять долларов и поехал в Шереметьево.
Тогда еще не было нового аэропорта, к самолету подвозил автобус. Шесть утра, мгла и темень, по полю метет вьюга, стоят пограничники, в автобусе, помимо меня, еще четыре человека. Это, конечно, удивило, но я опять успокоил себя тем, что наш автобус, наверное, не первый: основную часть пассажиров уже отвезли, а мы, так сказать, идем досылом. Подъезжаем к самолету, огромному Ил-62, в иллюминаторах еле-еле горит свет. Поднимаемся по трапу, входим в салон, я понимаю, что кроме нас, пятерых, никого нет и не будет.
Все расселись по разным углам, уставились в окна, друг на друга не смотрят. Не иначе как все шпионы, а я так, с мороза. Обстановка полуфронтовая. Из-за полутьмы в салоне ощущение какого-то очень секретного перелета: наверное, так во время войны летал в СССР Черчилль. Вышла стюардесса с жалобным лицом, умоляющим голосом попросила всех сесть по центру самолета для правильного баланса при взлете. Никто не пошевелился, один я пересел в середину салона, стюардесса вздохнула, ушла за занавески, свет вообще погас, и в полной темноте со страшным дребезгом пустой консервной банки, ударяемой об асфальт, мы начали подниматься. Да, понял я, политика дороже бензина, случайные люди не должны лететь в Америку.
Потом встало солнце, настроение поднялось, первая посадка была в Лондоне, в Хитроу, где самолет заправлялся, а нас выпустили подышать. Я гулял по аэропорту, представляя, как уже приземляюсь в Нью-Йорке и как достаю свои карточки-шпаргалки, лишь только возникает малейший вопрос. И тут меня стукнуло страшное, но позднее прозрение: ведь я же даю карточку с вопросом, а как понять, что услышу в ответ? Осознание этого так потрясло меня, что, купив за пять долларов фляжку виски, тут же ее и выпил. Вернувшись в салон, увидел, что самолет уже битком набит англичанами, желающими задешево перелететь через океан. Нас покормили завтраком, я заснул.
Разбудила меня стюардесса, предложившая сок и попросившая пристегнуть ремень: идем на посадку, Нью-Йорк. Я глянул в иллюминатор: внизу, сколько видит глаз, — золотой свет, море огней, волшебный рой плывущего света, над которым покачиваемся в небе и мы. Да, это не шуточки — Нью-Йорк!
Вылезаем, попадаем в прекраснейший аэропорт (сейчас прилетая туда, чувствую, что он мне такой же родной, как Шереметьево-2, много хорошего потом здесь было), доходим до паспортного контроля (никакие шпаргалки не понадобились), мне делают отметку в паспорте, вижу надпись «Экзит», получаю багаж… Как хорошо все получается! Вот и стойка с надписью «Информейшн», подойду спрошу, где автобус на самолет компании «ТВА». Билет у меня в кармане, чемодан — в руке, подхожу к стойке, за ней милейшая девушка, с достойным видом молодого джентльмена говорю ей: «Здравствуйте», она кивает в ответ, спрашиваю автобус «компани тэ-ве-а».
— Ноу, — отвечает она.
Повторяю все заново. Медленно и раздельно.
— Я, — показываю на себя.
— Йес, — говорит она.
— Флай «Аэрофлот».
— Йес, — говорит она.
— Аутобус.
— Йес, — говорит она.
— Компани…
— Йес, — говорит она.
— Тэ-ве-а.
— Ноу.
Кровь ударяет мне в голову. Понимаю, что если сейчас не объяснюсь и не попаду на автобус, то со своими пятью долларами из этого вертепа капитализма не выберусь уже никогда. Мысленно прощаюсь с прежней жизнью, с мамой, с сыном Митей… Повторяю все слово в слово. Она повторяет все свои «Йес». Доходим до «тэ-ве-а» — «Ноу!»
Сердце останавливается, снова повторяю слово в слово. «Йес!», «Йес!», «Йес!», — отвечает она. Доходим до «тэ-ве-а» — «Ноу!»
Что такое! Господи, нужно же просто достать и показать билет, почему не додумался раньше? Шарю по карманам, от волнения билет никак не находится. Наконец, нашел. Даю девушке. Она аж расцвела.
— О-е! Ти-дабл-ю-эй!
Ей тоже сразу стало легко, она набрала какой-то номер, пришла другая девушка, еще более очаровательная, заняла ее место у стойки, а та вышла, взяла меня за руку, в другую руку — мой чемодан, и мы пошли. Меня это и потрясло, и обидело, и восхитило. Тридцатилетний режиссер, приехавший покорять Америку, а его, как младенца, ведут за ручку! Но, с другой стороны, какая материнская забота о редкостном идиоте, невесть какими путями занесенном в этот роскошнейший мир.
Она довела меня до автобуса, внесла чемодан, сказала что-то, показывая на меня водителю, — для себя я это перевел так:
— Это идиот, каких в Америке сроду не было! Если ты его не довезешь до самого места, он потеряется и погибнет!
Я глупо улыбался, почти раскланиваясь по сторонам. Она повторила то же, обращаясь к сидевшим в автобусе:
— Этот редкостный болван не бельмесит ни в чем на свете! Пожалуйста, дайте возможность водителю довезти его до самого места. Иначе он потеряется и умрет голодной смертью.
Все улыбались, покачивали головами, дружелюбно глядя на меня как на тяжелобольного. Автобус изнутри был затянут сетками, как в тюрьме (наверное, для защиты от террористов), но одновременно с этим пол был застлан толстым красным ковром. Мы поехали. Все в автобусе: негры, мулатки, латиноамериканцы — все заботливо глядели в мою сторону, всячески поддерживая меня выражением глаз, как бы говоря:
— Не бойся! Не такие уж здесь жуткие джунгли! Все будет о'кей!
Кто-то что-то пытался мне объяснить на непонятном языке, я тупо отвечал «Йес» и кивал головой. Водитель довез меня до самой двери компании «Ти-дабл-ю-эй», после чего опять обратился с речью к сидевшим в автобусе.
— Вы уж извините, — так я понял его слова, — но я должен довести этого кретина до самого места. Иначе черт знает что с ним случится!
Все закивали головами: «Веди! Мы подождем», он взял меня за руку, в другую руку — мой чемодан, отвел меня в конец очереди, стоявшей на тот же рейс. Я стал пожимать ему руку, показывая жестами: «Спасибо, старик! Теперь я в порядке», отчего он взглянул на меня с тяжким сомнением, вздохнул и пошел к девушке, регистрировавшей пассажиров. Показывая на меня глазами, он объяснил ей все то же самое: «Неведомым ветром с неведомого дерева на нас сбросило этот раритет общечеловеческого болванизма. Он должен долететь до Сан-Франциско. Но если потерять его из виду хотя бы на секунду, он может уже больше не найтись никогда». Девушка закивала головой, после чего водитель повторил ту же речь, обращаясь к очереди. Пока он говорил, девушка принесла к стойке второй табурет, водитель посадил на него меня, мой билет зарегистрировали, девушка сказала: «Сиди! Не вставай!» И я сидел на этом табурете, помогая прорегистрировать всю очередь. Затем она взяла меня за руку и довела до двери самолета.
Я опустился в кресло, рядом сидел прелестный, поразивший меня парень: весь его багаж (из Нью-Йорка в Сан-Франциско) состоял из книжки, которую он читал, — ни чемодана, ни сумки, ни зубной щетки. Мы взлетели, я почувствовал, что погибнуть на этот раз мне не суждено, на душу лег покой. За окном — чернота, огромная ночь, луна, под нами Америка, все страсти улеглись, все хорошо. Вспыхнуло табло, я пристегнул ремень, самолет идеально коснулся посадочной полосы, зажегся свет, все пошли на выход, я спустился на поле, поодаль светились огни аэропорта. И тут девушка с самолета догнала меня с криком:
— Мистер! Мистер! Ноу! Ноу!
— Неужели провокация? — подумал я. — И надо же, в последнюю секунду! Не зря же меня предупреждал этот лысый хрен в ЦК КПСС, велевший ни с кем не разговаривать! Неужели права эта гнида?
Я стал вырывать руку, вскрикивая:
— Йес! Я приехал! «Аэрофлот» компани! Аутобус! Сан-Франциско!
Я посмотрел в небо и увидел на здании аэропорта огромные светящиеся буквы: «Лас-Вегас». Кто мог знать, что перед Сан-Франциско самолет делает посадку в Лас-Вегасе? Со своими пятью долларами я чуть было не прорвался в этот вселенский притон игры и греха. Если бы девочки с самолета — дай Бог им здоровья и всяческого благополучия — не поймали меня на летном поле, то книгу моих воспоминаний пришлось бы заканчивать на этом месте, либо же далее они приобрели бы характер фантастического гиньоля. Не представляю, что можно делать в Лас-Вегасе с пятью долларами, билетом «Аэрофлота» и советским паспортом. Вероятно, пришлось бы пешком отправиться в Сан-Франциско, куда бы я топал, уже весь седой, с выпавшими зубами, по сей день.
Девочки опять засадили меня в самолет, не спускали с меня глаз еще два часа, чтобы я, не дай бог, не исхитрился депортироваться наружу через унитаз или еще как*то, и, только приземлившись в Сан-Франциско, доведя до выхода, сняли с себя груз забот обо мне. Там меня действительно встретили, там действительно был замечательный фестиваль и действительно замечательно прошла моя картина, и была замечательная пресса, все меня звали, я превосходно жил. Многое уже забылось, но никогда не забуду этой поразительной нежности, доброты, заботы.
Фестиваль был сказочным, таких теперь не бывает, и условия нашего проживания — тоже сказочные. Жил я в прекрасном «Холидей-Инне», в роскошном огромном номере. Меня специально поселили повыше, чтобы с высоты окна был виден весь Сан-Франциско, мост в Беркли, мост в Окленд. Вид из окна был изумительный, платили какие*то огромные суточные (чуть ли не по сто долларов в день), я уже обжился, гулял по городу, завел каких*то знакомых (тогда русских там почти вообще не было — только «старые русские»). «Старые русские» делили между собой каждый час моего общества, почитая его великим счастьем. И для меня общение с ними было великим счастьем.
Очень славный был генконсул в Сан-Франциско — Зинчук, консулом по культуре был мой однофамилец — Соловьев. Однажды американский Соловьев подошел ко мне:
— Мы получили шифровку: с вами очень хочет повидаться и летит сюда знаменитейший наш мультипликатор…
— Кто?
— Как кто? Ну, вы ж должны знать! Ну, знаменитейший! Русский Дисней!
— Кто же это такой? Иванов-Вано? — спрашиваю в ужасе я.
— Нет не он.
— Кто же?
— Ну, русский Дисней!
— Хитрук?
— Нет, не он. Другая фамилия. Ну, как вы не знаете!
— Нет, не знаю, — сломался я. С ума стал сходить — не знаю.
Впрочем, разговор вскоре забылся. Я поехал куда*то в гости, возвращался поздно, в два ночи. Захожу в огромнейший холл «Холидей-Инна», мягко-мягко светят золотистые полупотушенные лампы, под ногами — ворсистый ковер, всюду цветы, дорогая мебель, по центру холла в штормовке, сцепив руки на авоське с трехкилограммовой банкой югославской ветчины, сидит какая*то фигура, от которой сразу повеяло чем*то родным. Он приподнял голову, потревоженный каким*то шумом… Боже! Это ж Котеночкин! Действительно, русский Дисней!
В душе аж расцвело. Мы обнялись, расцеловались, как братья.
— Я лечу в Лос-Анджелес, — сказал он, — на анимационный фестиваль. Узнал, что ты здесь, хотел повидаться, вот прилетел, но ты поздно пришел, а я рано приехал, ничего не видел, все тебя ждал…
— Не волнуйся! О чем ты говоришь! Сейчас такой пир устроим!
Мы поднялись наверх на бесшумном лифте. Котеночкин ошалело озирался. Рядом с моим номером стоял автомат, выдававший за определенное количество никелей банки с разными напитками — естественно, и с пивом. Я полез в карман, засунул в щель доллар с мелочью…
— Что это? — изумился Котеночкин.
— Пиво.
— Брось врать!
— Не вру. Правда, пиво.
— Что, ночью пиво?!
— Ну да.
— Чего ж ты так мало взял — три штуки?
— Так это ж рядом с номером. Потом еще возьмем.
— К черту, к черту… Ну-ка брось еще!
— Зачем?
— Не-не-не… Бросай. Вдруг кончится?
Кинули еще доллар с мелочью, с шестью банками пива зашли в номер, пока я мыл стаканы, доставал водку, какою-то закусь, смотрю, он уже вскрыл свои три кило югославской консервированной ветчины, купленной по блату в московском гастрономе.
— Ты что, обалдел? Зачем?
— Старик! Такая встреча! Твоя выпивка — закусь моя.
Вот оно, истинное благородство русского Диснея! Потом я мучился с этой ветчиной, не зная, куда ее сплавить (мы от нее еле-еле откусили). Не везти ж домой!..
Радостно было невероятно! Холодное пиво, холодная водка, порезанная ветчина — все расставили на столе. Я специально открыл окно с потрясающим видом на Окленд, на Беркли, на мириады огней внизу, сам сел к окну спиной, его посадил — лицом, чтобы он видел и меня, и все это нечеловеческое чудо.
Разлили холодную водку, подняли стаканчики. Перед тем как чокнуться. Слава сказал:
— Старик, умоляю, закрой шторы!
Я охренел: как это, закрывать такую красоту?!
— Слава, почему?
— Прошу, закрой! Раздражает!
Я задвинул шторы, и в обстановке отечественной подводной лодки мы распили бутылку водки, одну из счастливейших в моей жизни…"
|
|
</> |

 Накрутка друзей в Одноклассниках: как увеличить активность без риска
Накрутка друзей в Одноклассниках: как увеличить активность без риска  Сериал про декабристов
Сериал про декабристов  «На грани». Первый анонс
«На грани». Первый анонс  Из осени - в зиму
Из осени - в зиму  Отставить разговоры! Вперед и вверх
Отставить разговоры! Вперед и вверх  Распределение чернозема на планете
Распределение чернозема на планете 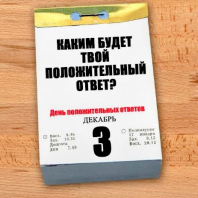 Необыкновенный день
Необыкновенный день  Die Katze
Die Katze  «Королева сосисок» и «Королева подгузников» — фотографии самых странных
«Королева сосисок» и «Королева подгузников» — фотографии самых странных