Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Комендантский дом 12 июля 1826 года
 fredmaj — 13.07.2014
(если успею - то к дате, хотя и не совсем верной).
fredmaj — 13.07.2014
(если успею - то к дате, хотя и не совсем верной).12 июля 1826 года в Петербурге был объявлен приговор 126 декабристам (которых так еще не называли). 121 человек были осуждены на разные сроки каторги, поселений, заключения в крепости, к переводу в солдаты на срок или без срока. Пятеро - приговорены к смертной казни, которая совершилась в ночь на 13 июля 1826 года, вернее - уже утром, были разные помехи.
Под катом - кусок из текста "...И оставь серебро", как раз попытка реконструировать, как прозвучал приговор для пятерых, осужденных вне разрядов.
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Комендантский дом
12 июля 1826 года)
…кажется, места им не хватало. Так встали – рядом, встали, будто оборону держать собрались. Правильно встали, надо сказать, грамотно – каре… из пяти человек каре, смешно!.. было бы. В диагональ: Павел, Мишель, Сергей, перед Сергеем – один из северян, русый и черноглазый. Они, пока ждали все вместе своего суда, представиться успели, так-то только Павел этого Рылеева… Кондрата, вот его как, да, только он его и знал. Тогда успели друг другу назваться, а больше… ничего, даже не насмотрелись, почти не поговорили. Сергей, от природы человек невнимательный, одно лишь и отметил, что за несколько недель от последней очной ставки похудели оба – и Мишель, и Павел, хотя, казалось бы, куда ему больше? Кондрат Рылеев, оглядев их всех, будто обрадовался Павлу и второму своему соратнику, странному человеку с отчаянными глазами самоубийцы. Обрадовался – и тут же помрачнел, сказал:
- Пестель, Вы-то зачем здесь? – на что Павел развел руками:
- Привезли, - добавил: - может… - глянул коротко на Мишеля, едва стоявшего на ногах, и сказал, кажется, не то, что собирался: - какая-то процедура или очная ставка?
Рылеев хмыкнул и отвернулся. А Павел шатнулся к Сергею, спросил – тихо, кривясь, как от слишком яркого света:
- Ты веришь во что-нибудь?.. – но Сергей в тот миг вопроса его не понял, пожал плечами. Теперь – понимал, но отвечать было уже поздно.
…стояли так, что Сергей видел их обоих. Никого больше, ни судей, ни северян – только своих, только Мишеля и Павла чуть впереди и на шаг дальше него. Того, кто зачитывал обвинения – по очереди, каждому отдельно, начав с Павла, - Сергей только слышал, но не видел точно так же, как всех прочих судей. Начни он с кого иного, может, попал бы под рассеянный взгляд, но раз начал – с Павла…
«Имел умысел на цареубийство, изыскивал к тому средства, избирал и назначал лица к совершению оного…»
…он, кажется, тоже никого не видел, прямо перед собой смотрел. Не так, как обычно – поверх, чуть закинув голову, а – прямо. От того казалось, что смотрит вниз, под ноги. Нет, прямо – в край стола, в алое сукно. Страшный взгляд, неподвижный и пустой – смертной уже пустотой, взгляд человека, которому каждая строка, нет, каждое слово – удар. Сквозь строй, наверное, с такими глазами идут…
«…умышлял на истребление императорской фамилии и с хладнокровием исчислял всех ее членов, на жертву обреченных(1)…»
Услышал? – похоже. Тень усмешки мелькнула, сменилась тенью же горечи – и снова ничего, пустой взгляд. Словно он уже не здесь…а где? «На Голгофе», подумал Сергей и сам испугался этой мысли. Почему он так решил, что за ужас? А… а, вот – почему. Вот оно, то, что он увидел прежде, чем понял: поперек лба Паши тянулась полоса от зажившей уже раны – тонкая розовая кожа, и желтоватое пятно спускалось к виску. Сергей эту рану помнил именно раной, почти свежей, страшной, как след от пытки. Апрель месяц, очная ставка их, вторая по счету, первая, что состоялась. Наговорили они тогда… разного наговорили, он Павла уже трясти был готов: замолчи, не мешай мне тебя спасать! Но Пашка – бледный, пошатывавшийся – говорил все одно и то же: было совещание в Каменке, все тогда были согласны… «Да не было, не возобновлялось оно больше!»(2) - хоть кричи, хоть что делай, все без толку. Показалось на миг, что Павел по какой-то своей причине пытается оговорить Сергея, но – показалось и только. А вот другое – ничуть не казалось, увидел ясно и сразу: жуткого вида двоящуюся полосу поперек лба. Света довольно было, так что нагляделся вдоволь, забыть потом не мог. Буро-красная там, где рассажена кожа и кровь проступила и запеклась, сизо-фиолетовая – там, где кровь под кожей свернулась. Не выдержал тогда, поперек его слов спросил: «Пашка, что это с тобой?» – забыв про все и про всех. Тот не сразу понял, потом, чуть кривясь, махнул рукой: «Упал, наверное. Не важно», и вдруг добавил: «У тебя хуже», показал на миг ожившим взглядом на его висок, улыбнулся – жалкой, бледной улыбкой. Развели их потом вскоре, потому как дошли до полного тупика: один остался при своем, другой – при своем. Но рану ту Сергей еще несколько ночей в кошмарах видел. И теперь вот увидел: не рана, так, след только – под черными с проседью волосами, убранными набок с чуть неуместной сейчас подчеркнутой аккуратностью. Эх ты, немец… подумал – и чуть не закричал от внезапной боли. Почему? – да нипочему. Просто – больно. И… страшно? – нет, как-то иначе. След этот… Будто – ну, да, так – будто терновый венец. Сравнение почему-то кощунственным не показалось, напротив, самым верным и оттого – невыносимым.
«…и возбуждал к тому других, учреждал и с неограниченной властью управлял Южным тайным обществом, имевшим целию бунт и введение республиканского правления, составлял планы, уставы, Конституцию…»
«Что тебе важнее: республика Российская или слава законодателя?» - вспомнил свои слова, вспомнил ссору их давнюю, стиснул зубы, чтобы – ни звука… Следствие не разбирало, что кому важнее, Павла обвинили разом во всем – и в республике, и в законах ее. Но… ведь это же только слова?
«…возбуждал и приуготовлял к бунту, участвовал в умысле отторжения областей от империи и принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других».
Голос умолк, Павел чуть вздрогнул, словно хотел обернуться, но подавил это желание. Руки стиснул в кулаки, замер. И Сергей замер тоже, ожидая сентенции. Надеялся? – нет, уверен был, что худшим исходом за такой список злодеяний будет разжалование полковника в солдаты. Но – вряд ли, скорее всего – Сибирь, может, навечно, может…
Не додумал, не успел. Услышал:
«Решением Верховного уголовного суда приговаривается к смертной казни четвертованием»,
увидел, как страшно, будто от последнего уже, смертельного удара, дернулся Павел – но так и не поднял взгляда, так и замер – снова, как прикованный. Увидел… и на какое-то время вовсе перестал видеть и слышать что-либо.
Очнулся – когда стоявший перед ним северянин, Рылеев, ахнул и схватился руками за голову. Что услышал? – а, вот:
«…назначал к совершению оного лица; умышлял на лишение свободы, на изгнание и на истребление императорской фамилии и приуготовлял к тому средства…»
Успокоился, замер, опустил руки. Начало, вроде, как у Павла, подробнее даже. Средства, стало быть, приуготовлял. Верно, не хватило? Стало вдруг жарко, словно воздух вокруг стал кипятком. Жаль, ах, как жаль, что – не хватило! Может, сейчас бы не пришлось стоять перед судом, может!.. Да что с того. Ничего не «может», так, пустые мечтания, но… но – как жаль, что – не хватило!
А невидимый – до сих пор не разглядел – чтец продолжал мерно:
«…управлял оным, приуготовлял способы к бунту… сам сочинял и распространял возмутительные песни и стихи и принимал членов…»
Ага, вот кто это. Да, смешно – как не сообразил? Вот чьи стихи привез из Петербурга Матюша. А еще был… Одоевцев(3)? Или кто-то другой? Не важно, конечно, просто забавно вышло: не признал, не вспомнил. Что же, Павла за уставы и Конституцию собрались убить так, как со времен Пугачева не казнили, а чем нынче расплачиваются за возмутительные песни и стихи?
«…приуготовлял главные средства к мятежу нижних чинов чрез их начальников посредством разных обольщений и во время мятежа сам приходил на площадь(4)».
…а, так еще и мятеж. Павлу хоть этого обвинения не досталось. Правда, Рылеев планов не составлял, только стихи… Но все же – что будет, какой еще изуверский способ казни найдут, ведь здесь-то злодеяний побольше…
И – если Павлу… Назвать казнь даже мысленно не смог, подумал, едва ли не усмехнувшись: а интересно, что же ему-то, Сергею, выпадет? Вот уж кто вправду – виновен. Что еще есть, привяжут к пушке и выстрелят? Или что – на кол посадят? Какие еще есть на свете способы мучительно убить?
«Решением Верховного уголовного суда приговаривается к смертной казни четвертованием».
Рылеев пошатнулся, снова вскинул руки к вискам – но справился с собой почти сразу же, выпрямился, опустил голову. Сказал почти беззвучно:
- Господи… ну, что ж – так…
Сергей услышал только потому, что стоял близко, и до конца не был уверен, что расслышал во вздохе Рылеева именно облегчение, а не что-то иное. Или поэт тоже гадал, что может быть хуже четвертования?
«А ведь это всем нам приговор», - вдруг понял Сергей. Их пятеро, никого больше нет, даже Сержа Трубецкого, даже Юшневского или Артамона – никого, только они. Верно, объявляют одинаковые приговоры, а это значит, что… Да. Что ему нет нужды перебирать жутковатые ритуалы казней, измышленных человечеством за долгие годы. Его так же приговорят к смертной казни четвертованием, как и Павла, как и этого поэта, как и Мишеля… Мишеля?
Понял, да? что же ты, неужели только что это понял? Вот теперь уже не в жар бросило, а словно льдом сковало, как цепями – по рукам и ногам. И – до сердца. Что же, все напрасно, да? Напрасно надеялся, что Мишель в конце концов научится жить и без него – может, и научился бы, да времени нет, без него, Сергея, Мишель проживет… Сколько потребуется, чтобы казнить долгой и мешкотной казнью троих или четверых? – вот, столько и проживет. Или чуть меньше. И…
И что – все?!
…диагональ – Павел, Мишель, Сергей. Себя не видел, видел – Мишеля, прижавшего пальцы к губам жестом совершенно детским или девичьим, и неподвижного, словно вне мира уже – Павла. А потом Павел – обернулся. Тоже, что ли, понял все? Поглядел на Мишеля с такой горечью и болью, что сомнений не осталось: понял. Качнулся, прикусил губу, кажется, хотел что-то сказать? Может, и хотел, по крайней мере колокольчик у кого-то из судей звякнул предупредительно. Испугались шума прямо на суде? Ничего, потерпите, скоро все кончится – и будет, наконец-то, тишина и покой. А пока – потерпите, господа судьи, они еще не все друг другу сказали. Впрочем, если нельзя словом – ведь можно взглядом. Вот так, взглядом одним, Павел и сказал свое: «его тоже казнят, Серж»; сказал: «бедный мальчик»; сказал – зачем, почему? – «прости».
«…избирал и назначал к тому других, соглашаясь на изгнание императорской фамилии, требовал в особенности убиения цесаревича и возбуждал к тому других, имел умысел и на лишение свободы государя императора…»
А, так это про него, что ли? Ну, да, имел умысел, много он имел различных умыслов! Пашка его еще ругал за добрую половину, включая это самое лишение свободы государя. Ладно, не важно уже и почти не любопытно – все равно с действительностью приговор соотносился как-то неплотно, вроде рассохшейся рамы, не совпадал. Вот только проверить, верно ли понял? – если ему тот же приговор, значит, да, все верно. Ну и… и ладно.
Хотя, конечно, страшно ему было. Или – стало, на тот миг, когда уже понял, что приговор – его, но еще не понял, что то же самое слышат Павел и Мишель. Слышать чужой приговор ведь едва ли не страшнее, чем собственный, это Пашке так не повезло – первый, а ему уже не интересно даже, ну, наговорят… Не важно.
«…и возбуждал других к достижению цели сего общества, к бунту, участвовал в умысле отторжения областей…»
А, это, стало быть, общение с поляками. Ладно, допустим, формально оно и так – другое дело, насколько эти области империи принадлежали и какой ценой? Впрочем, тоже не важно. Раз так – так и будет, если приговор донесут до всех – каких «всех»-то, кому еще до нас осталось дело? – то так и будет. «Россию продал», н-да… Хоть бы сказали, что за области, кому и зачем их отторгнуть хотели!.. Сергей зажмурился, стиснул зубы. Надо было перестать вовсе слушать приговор, поздно, без толку, все равно ничего не переменить. Да, просто перестать слушать и сосредоточиться на другом, на – других. Которые, к сожалению, то же самое слышали:
«…привлечением других, лично действовал в мятеже с готовностью пролития крови…»
«Пашка, ты в готовность эту веришь?» - спросил взглядом. Сам – да, верил, да, был готов, да, пролил… Свою и пролил, да еще вот – братову, вот и все. Павел ответил на взгляд, словно понял вопрос, кивнул и улыбнулся слабо, как во сне. Будто сказал: «Это не важно», будто ему в самом деле было не важно.
«…возбуждал солдат, освобождал колодников, подкупил даже священника к чтению пред рядами бунтующих лже-Катехизиса, им составленного, и взят с оружием в руках(5)».
Ну, вот и добрались до дела. Ну… вот. Страшно? – да, страшно. Господи, помоги! …помилуй… Пусть Мишель этого не услышит.
«Решением Верховного уголовного суда приговаривается к смертной казни четвертованием».
Да, похоже, что – всем.
Мишель вскрикнул, зажал рот ладонью, обернулся. Глаза у него были… это словами не описать, да и видеть – не нужно, невыносимо. Столько горя, отчаяния и неверия разом, словно не взгляд это был, а крик: «Не может быть!». Может, милый, может, но ты не горюй, казнь – вправду – не самое страшное, что с человеком случается. Если Господь не оставит… Ну, что ты, казнь – просто смерть, а смерть – это… это еще не конец, правда, ты поверь, пожалуйста. Поверь, милый…
…потому что следующий приговор – твой.
«Имел умысел на цареубийство, изыскивал к тому средства, сам вызывался на убийство блаженные памяти государя императора и ныне царствующего государя императора…»
А это когда же? Сергей не помнил этого вызова напрочь, подумал тут же, что тогда Артамону самое место среди них(6) – шестым… и забыл о троюродном брате с тем, чтобы больше и не вспоминать.
«…изъявлял оный в самых жестоких выражениях «рассеяния праха», имел умысел на изгнание…»
Опять пришлось крик давить. Господи, кто тут судьи, чему их учили? Так изгнать или истребить, определились бы! И как можно судить за выражения? …ну, так же, как Павла – за хладнокровие, бред же какой-то, словно дурной сон… Только это не сон был, только им от него уже не проснуться.
…или – вот как: проснуться, да. Они проснутся – потом, после, для Жизни Вечной. Наверное. Потому что если уж судить – и казнить! – за намерения, то не людям людей, нет. Никто из сидящих за крытым алым сукном столом не знал и не знает, не понял, не услышал того, чего на самом деле хотели пятеро, обреченных смерти. Никто – в мире сем. А в мире горнем – что же, там разберутся. Это было Сергею не надеждой даже, но последней опорой и единственным упованием: там, на ином Суде их, по крайней мере, услышат.
«…присоединил к оному Славянское, составлял прокламации… требуя даже клятвенных обещаний целованием образа…»
От приговора Сергей слышал какие-то обрывки – взгляд Мишеля не отпускал, не давал отвлечься. Фразу про образ – услышал, сжал кулаки: понял, кто выдал Мишеля, понял, но сделать уже ничего не мог. «Что же вы, славяне, что же вы наделали?» - промолчал, задавил в себе гнев. Что наделали? – да просто валили все на тех, кто был взят с оружием в руках, кто и так уже обречен. Обреченному не поможешь, а себя еще можно спасти – наверное, так думали, да? Вот – так? …может, они и правы были. Для себя. И дай им Бог никогда не узнать, чем именно они откупились от смерти. Чем и – кем.
«…лично действовал в мятеже с готовностью пролития крови, возбуждал офицеров и солдат к бунту и взят с оружием в руках(7)».
Пауза – дольше, чем на вдох и выдох. А Сергею – на один шаг, на полтора – со своего места к Мишелю. Им не запрещал никто, да и попробовали бы Сергею запретить! Шагнул – оказался рядом, обнял за плечи. «Я тебя не оставлю», - не сказал, подумал, но Мишель понял, кивнул судорожно и благодарно. Павел вздрогнул и отвернулся, уставился вперед. Тоже хотел подойти, но не решился? Впрочем, он хромал сильно, может, просто больно было – стоять, идти. А может – понял иное и просто не стал мешать Сергею держать младшего своего друга. Наверное, так, тем более, что Мишель никого, кроме судей и Сергея самого просто не видел, он и Павла бы не заметил, так – зачем? Зачем подходить, если и так все слышно?
«Решением Верховного уголовного суда приговаривается к смертной казни четвертованием».
Дернулся, забился в руках – пытался заставить себя не кричать и не плакать. Господи, как он жить хотел! Как – до конца, кажется – надеялся: отпустят. Ведь он же все сделал, он на все их вопросы ответил честно, за что же его казнить? Откуда Сергей знал про эти честные ответы? – тогда, кажется, неоткуда было узнать, разве что из вопросов Комитета. Так что не узнал – догадался, понял, почувствовал, как чувствовал иной раз смысл поступков людей, еще скрытый от них самих. Только что меняло это его знание, чем могло помочь обреченному на мучительную смерть мальчику? Ничем, разумеется. Тут не знание нужно было, тут нужно было – чудо, а это уже не в Сергеевой было власти. Сам он только и мог, что держать Мишеля крепче, держать в руках – его за него самого, чтобы не дать судьям повода торжествовать. Обойдутся.
От последнего – пятого – в памяти осталось одно только имя: Каховский, Петр. Он тоже умышлял и изъявлял согласие, по странной формулировке: быв предназначен, но что еще делал? А, да, нанес смертельный удар графу Милорадовичу и полковнику(8), чья фамилия выпала из памяти Сергея тут же. Что ж, этот тоже был, что называется, «взят в поле», и точно так же приговорен – к смертной казни четвертованием. Вроде бы – все, но их, почему-то, не торопились вывести из зала. Сергей подумал было, что казнь исполнят прямо сейчас и здесь, подумал, что никто, наверное, не успел исповедаться – так как же, без исповеди убьют, или им и в Таинствах теперь отказано? Но причина была в другом.
«Но по высочайшей милости…»
Павел, до того недвижный, вскинулся, выпрямил спину. Так ждут разом последнего удара или верного спасения, только на спасение Павел не надеялся, явно. Сжал кулаки, безумным, видимым усилием заставил себя – услышать:
«…как жестокая и мучительная, будет заменена…»
Руки обмякли, раскрылась ладонь – бессильно, как в обмороке. Странно, что Павел еще стоял на ногах, даже веки не дрогнули, только – ладонь…
«…повешеньем».
…надо же… вот же – милость…
Мишель обернулся – близко-близко блеснули не глаза – слезы на глазах. Сказал – вслух, не справляясь с голосом:
- А я уж испугался… - и, уткнувшись в плечо Сергею, разрыдался безудержно.
Павел тоже обернулся, взгляд был пустым и черным – так разошлись зрачки. Пошатнулся, но устоял, прищурился близоруко… Как будто хотел что-то разглядеть или сказать, но не видел – и не находил слов.
Но – зачем? что можно было сказать – теперь, что, кроме: «прости»?
А, да. Еще можно было сказать: «Прощаю».
*
...замерло время, недвижно застыли стрелки на невидимых часах, замер, не добежав шага до двери человек с незнакомым голосом, звавший по имени, остались вдохом на губах слова, которым так и не досталось – голоса. Но – ну и что? Когда придет время… или – когда оно, время земное, уйдет вовсе, тогда не важно будет уже, кто и когда произнес вслух так необходимое самому себе: «Прости». Да, так: именно себе, за себя и для себя просишь прощения у тех, кого не сумел спасти.
…не надеясь, но зная, что услышишь: «Простил».
Примечания:
(1) - Приговор П.И.Пестеля полностью, включая обвинение в хладнокровии при счете, цитируется по ВД, т. 17, стр. 224. (авт.)
(2) - Речь об очной ставке 22 апреля 1826 года по поводу «расхождения в показаниях» насчет совещания в Каменке (поместье В.Л.Давыдова). По показаниям Давыдова, Волконского, Пестеля и Бестужева-Рюмина на этом совещании опять обсуждали тему истребления всей царской фамилии, которое первым предложил С. Муравьев-Апостол, с чем все присутствовавшие согласились (версия о первом предложении – авторства С.Г.Волконского (авт.)); по словам же Сергея Муравьева-Апостола эта тема, оставшись нерешенной окончательно на Контрактах в Киеве в 1823 году, более не возобновлялась и не бралась к обсуждению. (ист.: ВД 4, 9, 10)
(3) - Сергей неправильно воспроизводит фамилию А.Одоевского, действительно, поэта, хотя стихи, про которые он вспоминает, были написаны А.Бестужевым (Марлинским). (авт.)
(4) - Приговор К.Ф.Рылеева цитируется в сокращении по ВД, т. 17, стр. 224. (авт.)
(5) - Приговор С.И. Муравьева-Апостола цитируется в сокращении по ВД, т. 17, стр. 224. (авт.)
(6) - Артамон Муравьев в течение лагеря 1825 года в местечке Лещина трижды вызывался покуситься на жизнь Александра I (ВД, т. 4, 11)
(7) - Приговор М.П.Бестужева-Рюмина цитируется в сокращении по ВД, т. 17, стр. 224-225. (авт.)
(8) - Приговор П.Г. Каховского цитируется в сильном сокращении по ВД, т.17, стр. 225; фамилия полковника – Стюрлер, кроме них в приговоре упомянут еще безымянный свитский офицер (по фамилии Гестефер, впрочем, фамилия не названа), которого Каховский ранил. (авт.)
(да, о неверной дате: 12 июля - это по старому стилю. По новому будет 24.07.)
|
|
</> |
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Комендантский дом 12 июля 1826 года
Оставить комментарий
Популярные посты:
НТВ.ru | Алтайская пенсионерка отправилась за решетку за убийство невестки НТВ.ru Заринский городской суд Алтайского края поставил точку в громком деле об убийстве молодой женщины. Виновной признана бывшая свекровь погибшей Валентина Ярцева. Следствию удалось доказать, что пенсионерка жестоко расправилась со своей родственницей, а затем при ... |
Убийство журналистов ВГТРК: Савченко будут защищать Новиков, Фейгин и Полозов Вести.Ru Надежду Савченко, обвиняемую по делу об убийстве журналистов ВГТРК, кроме российского адвоката Марка Фейгина будут защищать Николай Полозов и Илья Новиков. 9 июля Надежде Савченко было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве. Следствие считает, что она ... |
Убийство младенца осталось за гранью понимания Фонтанка.Ру Следователь Лилия Федосеева квалифицировала случай как убийство с особой жестокостью. Были разночтения в дате начала преступления – январский уход Ипатовой в загул или наплевательство на медицинское веление в октябре. Остановились на втором. Для ареста Ипатовой ... |

 Какой подарить подарок на день матери
Какой подарить подарок на день матери  новости из села...
новости из села...  Панаманаш
Панаманаш 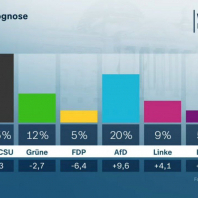 23 февраля в Германии, или Немного африканской геральдики
23 февраля в Германии, или Немного африканской геральдики  Календарь магических действий на февраль 2025
Календарь магических действий на февраль 2025  22 февраля ● "День приманивания хорошего настроения" и не только
22 февраля ● "День приманивания хорошего настроения" и не только  10 февраля ● День памяти А.С. Пушкина и не только...
10 февраля ● День памяти А.С. Пушкина и не только...  Пусть произойдёт
Пусть произойдёт  Винтажнык открытки в стиле ар-деко художник Phyllis Cooper
Винтажнык открытки в стиле ар-деко художник Phyllis Cooper 


















