Роль монет и монетизации в экономике древнего Рима (ч. 77)
 koparev">
koparev">Утверждается, что связь между фискальными требованиями и использованием монет была разорвана войной и инфляцией в период с 200 по 400 гг., что вынудило римское правительство вернуться к натуральному налогообложению или слиткам. Но имперское правительство покрывало растущие издержки, выпуская фидуциарные валюты, так что война и инфляция лишь упростили региональное налогообложение и имперские деньги.
Диоклетиан реорганизовал фискальные институты, чтобы получить большую налоговую выручку, и провел крупнейшую перечеканку монет в римской истории, чтобы удовлетворить свои более высокие налоговые требования и расходы. Примечательно, насколько мало изменилось использование монет в налогообложении в эпоху домината и раннего византийского периода. Налоговые регистры, сохранившиеся на египетских папирусах, также указывают на преемственность целей и потребностей римского правительства. Сложные системы призрачных валют были разработаны для того, чтобы налоги можно было легко собирать в монете во время инфляционных спиралей.
Тетрархические регистры показывают, что было выгодно собирать денежные налоги со скромных землевладельцев, которые не отличались от своих коллег в Антониновом Каранисе. Два регистра - один с платежами в Каранисе, охватывающий финансовые годы 295/6 по 300/1, и другой из неопределенного города в Гермополитском номе за финансовые годы 303/4 и 304/5 - охватывают период, когда нуммий последовательно облагался тарифом в 5, 12, 5 и 25 d.c. Обязательства были выражены в александрийских драхмах или талантах, и, несмотря на инфляцию, даже небольшие суммы считались выгодными для сбора. Платежи в Каранисе варьируются от 5 до 333 нуммиев; в Гермополитском городе с 3 нуммиев и до 180 нуммиев. Призрачные единицы счета предлагали средство, с помощью которого сборщик налогов мог рассчитывать обязательства на основе текущих тарифов нуммиев при сильно колеблющихся обменных курсах. Таким образом, тетрархические регистры основывались на тех же принципах учета, что и в принципате, и составлялись для той же цели, а именно для сбора различных налогов в биллонных монетах.
Даже процесс адерации, посредством которого налоги заменялись зерном, осуществлялся на монетизированном рынке. Чиновники стали экспертами в получении прибыли от колебаний цен на зерно и обменных курсов между золотом и биллонной монетой – хорошо проиллюстрированных на платежах землевладельцев в Филадельфии, охватывающих финансовые годы 309/10 – 316/7.
Императоры Северы отказывались заменять налоги зерном и маслом на монету всякий раз, когда им нужно было прокормить свои путешествующие свиты, армии или городских плебеев. Лициний аналогичным образом брал зерно а не монету у египетских налогоплательщиков в качестве платежей во время гражданской войны в 314–316 годах. Сообщения о сборах продуктиами увеличились не из-за изменения денежной политики, а из-за безжалостного давления. Чиновники тетрархии оставили больше налоговых документов всех видов. Чиновники часто заменяли повинности продуктами на монету для удобства перевозки. Например, в досье Аврелия Исидора, землевладельца из Караниса, сохранился список налогов на овес в 310/11 г., возможно, заменённый на 1120 нуммиев, весом менее 12 фунтов, которые было гораздо легче перевозить и хранить, чем 5250 фунтов овса. В V и VI веках византийские чиновники следовали тем же фискальным принципам, за исключением того, что они приняли солид и его караты в качестве единиц расчёта, когда расчёт в традиционных единицах оказался слишком громоздким.
Поскольку бюджет Римского государства обеспечивал средства, с помощью которых монеты выпускались в обращение, фискальная и коммерческая роли монет всегда были тесно переплетены. Критерием уровня развития римской экономики является степень использования монет в ежедневных транзакциях на рынках. Таким образом, пора рассмотреть, в какой степени римские монеты проникли на рынки и преобразили экономическую жизнь средиземноморского мира.
Иоанн Златоуст, епископ и оратор Феодосиевой эпохи, заявил: «Использование монет объединяет всю нашу жизнь и является основой всех наших сделок. Всякий раз, когда что-то продаётся или покупается, мы делаем это посредством монет». Это широкое заявление было сделано в конце четвертого века, в то время, когда, по мнению многих учёных, римский мир уже отошёл от монетарной экономики; поэтому утверждения, подобные высказыванию Иоанна, отбрасываются как шаблонные архаизирующие высказывания городских чиновников. Иоанн, однако, говорил для своего времени, и его замечание не следует игнорировать, поскольку римляне четвертого века были наследниками более чем 600-летнего употребления монет. Поскольку фискальные причины диктовали чеканку монет, многие ученые сомневались в утверждении Иоанна Златоуста о степени монетизации городской и сельской экономической жизни в римском мире. Значение, придаваемое монетам на рынке, зависит от интерпретации уровня развития римской экономики. В настоящее время выдвигаются два различных взгляда на римскую экономику.
Наиболее распространенная точка зрения подчеркивает преобладающую сельскую и неразвитую природу экономической деятельности в мире, который, как считалось, лишен настоящих рыночных сил. В таком мире монеты играли лишь ограниченную коммерческую роль, и, как отмечается, даже эта роль уменьшилась в четвертом веке, когда имперское правительство вернулось к натуральным налогам и слиткам. Греко-римским городам отводятся роли потребителей или, что еще хуже, паразитов, взимающих арендную плату и налоги с сельской местности и мало что дающих взамен. Экономическая жизнь городов была подчинена политической и религиозной деятельности или направлена на приобретение предметов роскоши для возвеличивания аристократов. Следовательно, декурионы рассматриваются как консервативная земельная элита, озабоченная только исполнением политических и социальных драм на сцене, предоставляемой общественными местами своего города, и не заинтересованная в развитии новых методов торговли, банковского дела и кредита, которые имели столь важное значение для накопления капитала и экономической трансформации городов Западной Европы позднего средневековья и раннего Нового времени.
Исходя из предпосылки о сельской, неразвитой экономике, делается вывод о хроническом дефиците монет и о том, что большинство сделок осуществлялось бартером. Низкий выход монет на раскопанных сельских участках принимается за доказательство минимального использования монет большинством жителей Римской империи. В такой интерпретации фискальное назначение монет становится практически единственной причиной их использования, и многие крупные номиналы отвергаются как показное проявление суверенитета, а не как настоящие деньги. Однако данные раскопок на сельских участках далеки от убедительного доказательства. Монеты — это не просто предметы, которые легко пропустить. Более того, даже дробные бронзовые монеты обладали значительной силой и, как правило, не терялись, за исключением мест, где совершались многочисленные сделки, поэтому малочисленность случайно утерянных монет при раскопках сельских жилищ едва ли вызывает удивление. В городах такие места, как рынки, порты, храмы и театры, легко идентифицируются и тщательно раскапываются, а найденные в таких местах монеты публикуются в громоздких томах с длинными каталогами. За пределами города места проведения еженедельных деревенских базаров и ярмарок на перекрестках дорог или в полях в значительной степени ускользнули от идентификации и раскопок, так что это не является истинным определением.
Более того, литературные и документальные источники сообщают о подавляющем предпочтении указывать цены и выплачивать заработную плату в монете. Представление о широком распространении бартера в сельских сделках основывается прежде всего, при отсутствии других свидетельств, на общей вероятности, выведенной из модели неразвитой экономики. Тем не менее, в римском Египте, несмотря на то, что зерно использовалось в качестве основного средства обмена со времен фараонов, заработная плата в поместьях рассчитывалась в оболах или драхмах в день и выплачивалась ежемесячно. Хотя сборщики урожая нанимались на условиях натурального вознаграждения — процента от снятой пшеницы за каждый aroura — они были временными рабочими, работавшими менее месяца, так что вместо заработной платы древний метод оплаты все еще был удобен. Знаменитый рельеф, найденный в Ноймагене изображает римского банкира, выплачивающего монеты в качестве заработной платы или на покупки галльским провинциалам, одетым в национальные кожаные куртки с капюшонами. При рассмотрении монет в сельском контексте лучше всего провести аналогию с практикой раннесредневековой Европы, мира, по всем параметрам гораздо более сельского, чем классическое Средиземноморье. В рамках своего римского наследия западные европейцы всё ещё мыслили в терминах чеканных денег, даже когда самих монет было мало. Они оценивали стоимость транзакций в монетах, даже когда расплачивались продуктами. Мышление монетами, отличительная черта монетизированной экономической жизни, должно быть, было ещё более выражено в Римской империи.
В свете свидетельств повсеместного использования монет, второе видение римской экономики представляется гораздо более правдоподобным. Поскольку налоги, взимаемые Римом, чаще всего уплачивались монетами, налогообложение привело к быстрому распространению монет, поскольку провинциалы должны были выходить на рынок, чтобы торговать или продавать продукцию, если они должны были приобрести достаточное количество монет для выполнения своих налоговых обязательств. Цели и потребности правительства служили двигателем экономического роста, создавая модели обращения монет, хорошо соответствующие замечаниям Иоанна Златоуста о том, как монеты объединяли жизнь римского мира. В этой схеме города предлагали готовые рынки, которые делали местную и региональную торговлю прибыльной. Город Рим находился в центре экономического роста. Её население выросло в двадцать раз, с 50 000 до 1 миллиона человек, между 200 г. до н. э. и 1 г. н. э., а население Италии выросло вдвое, с 4 до 6 миллионов. По мере того, как Рим, Остия и города Кампании поглощали иммигрантов, их рынки подверглись инфляции, так что к эпохе Августа цены в Риме были в три-пять раз выше, чем в провинциях. Высокие цены Рима и ненасытный аппетит к товарам привлекали торговцев со всего Средиземноморья, и, в свою очередь, деньги, полученные Римом в качестве добычи, контрибуций или дани, распределялись по провинциям. Учитывая высокий уровень смертности в городских центрах, Рим восполнял своё население, привлекая иммигрантов из итальянской деревни. Служа предохранительным клапаном для перенаселения, Рим удалял из сельской Италии излишки рабочей силы, тем самым предотвращая падение заработной платы до или ниже прожиточного минимума. Постоянный поток иммигрантов в Рим в поисках богатства и отъезд из Рима успешных иммигрантов привносил в итальянские города и сельскую местность монеты и денежные привычки, приобретенные в столице империи. Быстрый упадок муниципальных монетных дворов в Италии и концентрация чеканки в Риме во II веке до н.э. ознаменовали возникновение этого цикла, при котором люди и монеты постоянно перемещались между Римом и его итальянскими внутренними районами. Этот круговорот людей, товаров и денег охватил большую часть западного Средиземноморья, а также города Африки, Испании и южной Галлии, где к правлению Клавдия сочли чеканку местных монет излишней.
|
|
</> |

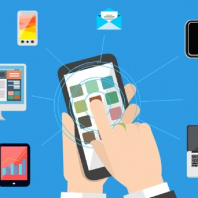 Виртуальные номера для регистрации: удобство и безопасность современных решений
Виртуальные номера для регистрации: удобство и безопасность современных решений  ЛЖЕМЕССИАНСКОЕ РИФМОПЛЕТЧЕСТВО
ЛЖЕМЕССИАНСКОЕ РИФМОПЛЕТЧЕСТВО  Улицы Манхэттена.
Улицы Манхэттена.  Фатальность.
Фатальность.  Танк-минодав по-американски
Танк-минодав по-американски  Рашку и Америкашку подготавливают к неизбежному - Битва за Битвой
Рашку и Америкашку подготавливают к неизбежному - Битва за Битвой  Вечер одноактных балетов «Кармен. Пахита. Вальпургиева ночь» в Москонцерт холле
Вечер одноактных балетов «Кармен. Пахита. Вальпургиева ночь» в Москонцерт холле  Каждый день нужно начинать с удовольствия...
Каждый день нужно начинать с удовольствия... 



