Профессор Кембриджа Наталия Берлова: "В России учёный постоянно должен
 philologist — 02.04.2018
Наталия Геннадиевна Берлова (род. 1968, Оренбург) —
российско-британский математик. В 1991 году окончила факультет
вычислительной математики и кибернетики МГУ. В 1992 г. поступила в
аспирантуру Университета штата Флорида, где в 1997 году защитила
диссертацию (PhD). В 1997—2002 гг. работала в Калифорнийском
университете, с 2002 г. — лектор, старший лектор, ридер в
Кембриджском университете. В 2013 году стала первой женщиной -
полным профессором математики Кембриджского университета. Первой за
все 8 веков его существования. С 2013 года – также профессор
Сколковского института науки и технологий.
philologist — 02.04.2018
Наталия Геннадиевна Берлова (род. 1968, Оренбург) —
российско-британский математик. В 1991 году окончила факультет
вычислительной математики и кибернетики МГУ. В 1992 г. поступила в
аспирантуру Университета штата Флорида, где в 1997 году защитила
диссертацию (PhD). В 1997—2002 гг. работала в Калифорнийском
университете, с 2002 г. — лектор, старший лектор, ридер в
Кембриджском университете. В 2013 году стала первой женщиной -
полным профессором математики Кембриджского университета. Первой за
все 8 веков его существования. С 2013 года – также профессор
Сколковского института науки и технологий.Ниже размещен фрагмент из ее интервью изданию "Аргументы и факты" 2014 года.

- Мне нравится организация западной науки, это гибкая система, где каждый может найти свою структуру для занятий интересующей проблемой. Учёные все разные: кто-то настроен на создание больших исследовательских групп, кто-то — на работу наедине с листом бумаги. Наука должна быть разной — и на базе небольших университетов, и в крупных академических центрах.
— Как вы думаете, если бы вы в 90-х не уехали за границу, вы смогли бы достичь в России ступеньки, сопоставимой с той, на которой сейчас стоите в мире науки?
— Однозначно, нет. Начальные условия были не те. Кроме того, последние 20 лет у нас целенаправленно душили и уничтожали науку. В этой сфере остались только те, кто не смог никуда уехать или кто смог встроиться в систему. Многие мои друзья-учёные тогда выбирали: остаться в университете или пойти мыть окна. Те условия были несовместимы с занятием наукой. Я могу себе представить, каких усилий стоило сохранить лаборатории на международном уровне, и преклоняюсь перед российскими учёными, которые смогли это сделать. Но сейчас я хотя бы вижу, что какие-то выводы сделаны и есть положительная динамика. Хочется в этом поучаствовать и помочь.
— Но и сейчас «утечка умов» не прекратилась?
— В России по-прежнему нет адекватных условий для науки. Довлеет бюрократия, драконовские условия для закупки реактивов и оборудования, учёный постоянно должен доказывать, что он не вор. Но самое главное, потерян престиж профессии учёного. Во время одного из моих приездов в Россию я встретила свою бывшую учительницу. Узнав, что я работаю учёным в Англии, она меня спросила, не чувствуют ли я себя человеком второго сорта. Я очень удивилась и смеясь ответила: «Я — профессор Кембриджского университета, в английской иерархии выше меня только королева». В России же всё по-другому.
— У нас потерян и престиж учителя…
— Роль учителя абсолютно критична в становлении любого человека, но учёного — особенно. Я помню мою замечательную первую учительницу из оренбургской школы № 64 — Зою Петровну Нестерову и учителя математики из школы № 6 Солнечногорска — Софью Борисовну Темптемышеву. Софья Борисовна видела, что школьная программа даётся мне слишком легко, и приносила мне интересные задачи, и я их тихо решала, сидя за последней партой. Среди учёных для меня примерами людей, бесконечно преданных идеалам науки, являются мои научные руководители в Московском госуниверситете и в США: Дмитрий Борисович Силин, Пол Робертс и Луис Ховард.
— Ваши дети учились в Англии, а теперь учатся в России. Как вы можете оценить европейское среднее образование?
— Сейчас они учатся в Ломоносовской школе в Москве, сын в 7 классе, дочь — в 3. Могу сказать, что начальная школа в Англии более расслабленная, особых требований к ученикам там не предъявляют, но и не отбивают охоту учиться, как это часто бывает в российских школах. В целом, в России нет такого индивидуального подхода к ребёнку, западное образование с этим справляется лучше. Английская школа — это игра, которая не требует напряжения. Там не загружают малышей, как в русской школе, нет, например, домашних заданий. Нагрузка увеличивается с определённого возраста. Но в наших школах всегда давали более последовательное, систематическое, научное образование.
— Насколько сильны различия в высшем образовании в Европе, США и в России? Ведь вы работали в университетах всех этих стран.
— Кембридж — не совсем показательный в этом отношении университет. К нам ведь попадают лучшие из лучших, «сливки». Чтобы пройти к нам, ученик должен ещё в школе доказать, что он этого достоин. Мы интервьюируем будущих студентов ещё до экзаменов в школе, тестируем, оцениваем. И часть из них приглашаем на летний трёхчасовой экзамен, сообщая, что они пройдут, достигнув такого-то уровня. И самое интересное, что этот уровень устанавливается для каждого индивидуально. Если мы знаем, что ученик пришёл из хорошей частной школы, то и требуем от него большего. И наоборот, если приходит выпускник государственной школы, получивший меньше знаний, но талантливый и мотивированный, мы снижаем планку. И эти дети «выстреливают» при должном образовании. В США от студентов не требуют узкой специализации с первого курса, при поступлении большое внимание отводится общественной жизни абитуриента. Начинают они слабее европейских студентов, но раскрываются в аспирантуре.
— И работают на благо этой страны?
— Наука — интернациональное понятие. Ещё Чехов говорил: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука». И всё же, когда страна создаёт хорошие условия для учёных и это приносит результаты, она становится в ряд развитых держав. А что такое сильная наука? Это целый комплекс — от хороших школ, учеников и преподавателей до старт-апов и бизнес-идей. В науку стоит вкладываться, она ведёт за собой прогресс.
Вы также можете подписаться на мои страницы:
- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy
- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky
- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy
- в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/
- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky
- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky
|
|
</> |

 Куда сходить в Уфе: 10 мест, которые стоит посетить
Куда сходить в Уфе: 10 мест, которые стоит посетить  Токсичный мем "физика исчерпана" (в более широком варианте "наука исчерпана").
Токсичный мем "физика исчерпана" (в более широком варианте "наука исчерпана"). 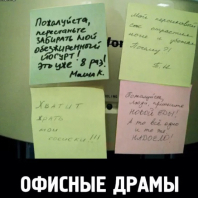 бабы vs мужики
бабы vs мужики  Это называется «всенародная слава».
Это называется «всенародная слава».  Несколько анекдотов из жизни литераторов
Несколько анекдотов из жизни литераторов  Контрольная точка: Полночь
Контрольная точка: Полночь  Сталин на Амуре
Сталин на Амуре  Гуляя по Москве
Гуляя по Москве  25 января ● "Татьянин день" или день студента
25 января ● "Татьянин день" или день студента 



