Парадокс "пиджака Ленина"
 maysuryan — 21.04.2017
maysuryan — 21.04.2017

Вырезанная из журнала "Огонёк" репродукция этой картины Ю. Непринцева "Отдых после боя" (1951) украшала комнату И. Сталина
Левый блогер Антон Лазарев
 anlazz
поставил любопытный, хотя на первый взгляд и нелепый вопрос: у кого было больше власти, у Иосифа Сталина
или у Дмитрия Медведева? Его вывод: у Дмитрия Анатольевича власти
больше. Почему? Потому что: "Настоящая власть – это возможность
реализовать все свои малейшие желания, как бы глупо они не
выглядели. Захотел новый «Айфон» – и купил! И не важно, что о тебе
подумают другие. Захотел – и фактически послал пенсионеров по
известному адресу. (А нечего спрашивать уважаемого человека о том,
что ему неинтересно!) Захотел – и поехал отдыхать, куда хочется и
когда хочется. Это слабаки пускай торчат по ночам над бумагами («до
утра в Кремле горит окно») – как студенты, которых могут отчислить
за малейший промах."
anlazz
поставил любопытный, хотя на первый взгляд и нелепый вопрос: у кого было больше власти, у Иосифа Сталина
или у Дмитрия Медведева? Его вывод: у Дмитрия Анатольевича власти
больше. Почему? Потому что: "Настоящая власть – это возможность
реализовать все свои малейшие желания, как бы глупо они не
выглядели. Захотел новый «Айфон» – и купил! И не важно, что о тебе
подумают другие. Захотел – и фактически послал пенсионеров по
известному адресу. (А нечего спрашивать уважаемого человека о том,
что ему неинтересно!) Захотел – и поехал отдыхать, куда хочется и
когда хочется. Это слабаки пускай торчат по ночам над бумагами («до
утра в Кремле горит окно») – как студенты, которых могут отчислить
за малейший промах."На самом деле, как мне кажется,
 anlazz не
совсем точно определяет понятие "власть", отсюда и такой вывод. Что
такое власть? С моей точки зрения, это просто возможности человека
(группы людей, класса, общества, человечества в целом). Возможности
изменять окружающий мир, или, наоборот, удерживать его от назревших
изменений (тоже власть, пусть, так сказать, и со знаком "минус").
Так у кого возможности изменять мир были больше – у Сталина или у
Медведева? При такой постановке вопроса ответ становится совершенно
ясен... Но есть ещё и другой, частный аспект власти, менее
значительный, но очень многими ценится именно он: возможность
изменять собственную жизнь и жизнь близких людей. "Реализовать СВОИ
желания", с ударением на слово "свои". И вот здесь, надо признать,
возможности современных обладателей власти в разы, а возможно, и на
порядки выше.
anlazz не
совсем точно определяет понятие "власть", отсюда и такой вывод. Что
такое власть? С моей точки зрения, это просто возможности человека
(группы людей, класса, общества, человечества в целом). Возможности
изменять окружающий мир, или, наоборот, удерживать его от назревших
изменений (тоже власть, пусть, так сказать, и со знаком "минус").
Так у кого возможности изменять мир были больше – у Сталина или у
Медведева? При такой постановке вопроса ответ становится совершенно
ясен... Но есть ещё и другой, частный аспект власти, менее
значительный, но очень многими ценится именно он: возможность
изменять собственную жизнь и жизнь близких людей. "Реализовать СВОИ
желания", с ударением на слово "свои". И вот здесь, надо признать,
возможности современных обладателей власти в разы, а возможно, и на
порядки выше.Начнём даже не со Сталина, начнём с эпизода из биографии Владимира Ильича Ленина. Потому что домашняя работница председателя Совнаркома (да, был у него такой грех – имелась в семье Ульяновых домработница после Октября, и факт этот никогда, в общем, не скрывался) блестяще сформулировала этот парадокс власти. Она говорила, согласно мемуарам, вытряхивая как-то пиджак Владимира Ильича (выделение моё): "Вот, всем правит, всем ворочает, а костюм себе справить не может, только и знаю, что чиню и штопаю". Однажды эти её причитания услышал сам Владимир Ильич, засмеялся и ободряюще похлопал её по плечу: "Ничего, ничего. Вот разбогатеем, куплю себе новый костюм. Вам меньше хлопот будет".
То есть власть всесильного вождя большевиков заканчивалась там, где речь шла о личных благах для него и для его близких. Выметать всю планету от "нечисти", как на известном плакате Дени, он мог, приобрести себе, по формуле известного позднесоветского фильма "пиджак с отливом – и в Ялту" – нет.

Могут сказать, даже с возмущением: но это же была просто личная скромность Владимира Ильича! Нет, это тоже восприятие через призму позднесоветского мифа. Когда то, что диктовалось железной необходимостью революции, стали трактовать как проявление сугубо личных качеств. Погибла бы революция, если бы её вождь оказался щёголем и нарядился в роскошную одежду по лучшей парижской моде
Перейдём теперь к Сталину, с которым и провёл своё сравнение
 anlazz. Мог ли
он, скажем, защитить бронью от призыва на фронт обоих своих
сыновей? Теоретически мог, конечно. А практически – нет, в силу
того же "вирусного эффекта" и грозных последствий, которые он бы
повлёк. Мог ли потом обменять сына, попавшего в плен, на маршала
Паулюса? Опять-таки не мог...
anlazz. Мог ли
он, скажем, защитить бронью от призыва на фронт обоих своих
сыновей? Теоретически мог, конечно. А практически – нет, в силу
того же "вирусного эффекта" и грозных последствий, которые он бы
повлёк. Мог ли потом обменять сына, попавшего в плен, на маршала
Паулюса? Опять-таки не мог...Любопытно, что году в 1989-м, когда на московской Пушкинской площади кипели жаркие политические споры, эта тема там тоже звучала. И я как-то стал свидетелем спора двух "сталинистов" с пожилым интеллигентом-антисталинистом. Он им доказывал:
– А вот посмотрите, как Сталин нехорошо со своим сыном поступил! Вот эта его известная фраза "солдата на маршала не меняют" – разве это красиво? С собственным сыном так обошёлся, не пожалел!
Те растерянно молчали. :) Я тоже, слушая это, тогда молчал, не находя слов для возражения, но был крайне удивлён: к Сталину я относился неважно, но мне-то казалось, что за такой поступок он как раз заслуживает похвалы!
И не стоит думать, что такое понимание власти ("власть должна использоваться прежде всего для приобретения личных материальных благ, для "красивой жизни" себе и своим близким") в те годы было какой-то одиозной редкостью. Тогда же один из популярных перестроечных авторов, бывший чекист и политзэк Лев Разгон добрым словом вспоминал некоего майора госбезопасности Выползова, который "любил красивую жизнь и красивые вещи... не был скупым и жадным, ценил у других вкус к изящному". "Он собрал на командировке Зимка всех сохранившихся живых художников, скульпторов, резчиков, краснодеревщиков... Художники делали... дивную керамическую посуду, которая украсила бы любую выставку, любой музей. Они выделывали из берёзового капа необыкновенные шкатулки, сигаретницы, папиросницы, украшенные инкрустациями, с секретными замочками, музыкальными сюрпризами… Ловкие снабженцы привозили из южных лагерей страны вагоны с бревнами дуба, бука, ореха, клена, светлого ясеня. И столяры – не столяры, а настоящие художники! – изготовляли из разных сортов дерева мебель, которая могла бы украсить любой дворец. На маленьком кожевенном заводе выделывали из оленьих шкур замшу, а варшавские портные шили из них костюмы, поражавшие воображение своей нерусской элегантностью. Там же выделывались драгоценные меха, шились горностаевые одеяла… И многое другое – Выползов очень любил красивые вещи. Красивые картины, мебель, посуду, безделушки. А это много значит".
И продолжал эту мысль, Разгон укорял... Сталина: "Я уверен, что если бы у Сталина была потребность украшать десятки своих загородных дворцов не картинками, вырезанными из «Огонька», и не стульями и столами, какие делают для вокзалов, а предметами, хотя бы отдалённо имеющими отношение к искусству, – то в чем-то лучше бы нам жилось."
Поразительный по откровенности упрёк, не правда ли? И типичная "проговорка по Фрейду": вовсе не "меньше привилегий" хотела либеральная интеллигенция, когда двигала перестройку. На приманку "меньше привилегий" клевал наивный народ, для него она и лепилась, а интеллигенты мечтали о том, чтобы у начальства было не меньше, а БОЛЬШЕ "красивой жизни", больше дорогих картин на стенах, больше роскоши и шика, больше изящных вещей в личном пользовании, и они могли бы начальству эту красивую жизнь обеспечивать. Конечно, вместить это всё в рамки красной идеологии было трудновато, поэтому и пришлось выбросить её на помойку (как думали, навсегда), и проклясть "душегубов" большевиков.
Между прочим, дочь Сталина Светлана Аллилуева тоже объясняла, почему её отец украшал своё жилище репродукциями, а не подлинниками картин знаменитых мастеров (выделение моё): "...что странного, захотелось человеку, чтобы стены не были голыми; а повесить хоть одну из тысяч дарившихся ему картин, он не считал возможным". "В 1950 открыли в Москве "Музей подарков", и мне часто приходилось слышать от знакомых дам (при жизни отца, да и после его смерти): – "Ах, там был такой чудесный гарнитур! А какая радиола! Неужели вам не могли этого отдать?" Нет, не могли!".
"НЕ МОГЛИ", – вот это очень ясно надо понять о пределах власти Ленина, Сталина и других большевиков. Тех, кого та же Светлана в своих мемуарах назвала, со слов одного большевика, "поколением марксистов-идеалистов". Разумеется, нынешние правители себя такими пределами могут не стеснять. В этом плане их власть, действительно, почти беспредельна... А вот в остальном...
Что касается именно картин, то в качестве иллюстрации могу рассказать такой случай из личных наблюдений. В начале 2000-х годов автору этих строк довелось провести несколько ночей возле Верховного Суда РФ на Ильинке. Чтобы попасть на приём к зампреду Верховного Суда и побеседовать с ним в течение трёх минут по судебному делу, люди (участники процессов и их представители) дежурили там сутками напролёт. Записывались в очередь под какими-то умопомрачительными номерами типа "1418", а стоять приходилось на улице на лютом морозе. Эта "очередь за правосудием", характерное явление ельцинско-путинской эпохи, наверное, заслуживала бы отдельного очерка – но об этом как-нибудь в другой раз. А вспомнил я эту историю потому, что в одну из таких ночей стоящих в очереди немного развлекло появление тогдашнего министра труда г-на Починка (его министерство соседствовало с Верховным Судом). Всезнающие бабушки в очереди тотчас зашептались, что министр специально приехал посреди ночи на службу, чтобы лично сопроводить в свой кабинет какую-то особо ценную картину для его украшения. И впрямь – грузчики выволокли из автомобиля нечто солидных размеров в раме и понесли в здание. Г-н министр стоял здесь же и зорким взглядом наблюдал, насколько бережно несут дорогой его сердцу шедевр. Правда, что это за полотно и чья кисть его создавала, осталось для меня неведомым – картина была упакована, а в кабинете г-на министра мне побывать не довелось. Но уж, наверное, это была не репродукция из "Огонька"!.. :)
В общем, возвращаясь к исходной теме, можно говорить о двух типах власти: для себя лично и для класса в целом. Пока власть имущие носят, условно говоря, ленинский заплатанный пиджак, они могут – вместе со своим классом – изменять мир. Когда этот пиджак сменяется на шикарную одежду по последнему писку мировой моды, возможность менять мир необратимо теряется. Я бы сравнил это с двумя формами энергии в физике. Как известно, работоспособность замкнутой системы неизбежно снижается до нуля. Внутренняя энергия системы необратимо обесценивается, хотя никуда и не исчезает. Она переходит в энергию движения отдельных молекул. Так и тут: власть, то есть возможности отдельных людей ("молекул") возрастают... возможности системы в целом падают практически до нуля. Власть никуда не девается, но необратимо обесценивается. Возможность как-то менять мир начисто исчезает, остаются только гарнитуры, картины и горы прочих материальных ценностей. И вернуть ситуацию назад изнутри невозможно. Тут необходимо "внешнее вмешательство", со стороны другого класса, которое в истории называется, между прочим, революцией.
Такие дела.
|
|
</> |

 Займы без процентов: где взять деньги без переплат
Займы без процентов: где взять деньги без переплат 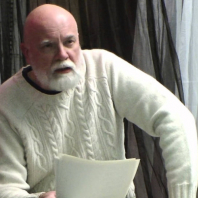 ВЕЧНЫЙ И НЕОТМЕНЯЕМЫЙ
ВЕЧНЫЙ И НЕОТМЕНЯЕМЫЙ  Все успели купить евро ? А ведь я вам советовал
Все успели купить евро ? А ведь я вам советовал  Лёгким движением руки...
Лёгким движением руки...  О приходе «украинского мира» Достаточно наглядно?
О приходе «украинского мира» Достаточно наглядно?  Недоброжелательно на нас глядит котик от niyancororin15
Недоброжелательно на нас глядит котик от niyancororin15  Дышите, не дышите
Дышите, не дышите  Демократы
Демократы  И квакнуть не успели...
И квакнуть не успели... 



