Окопный быт Русской армии в 1914-17 гг. (Часть 2).
 mil_history — 17.01.2024
Начало: https://mil-history.livejournal.com/1970404.html
mil_history — 17.01.2024
Начало: https://mil-history.livejournal.com/1970404.htmlИсточник: https://www.socionauki.ru/journal/articles/244532/
Сенявская Е.С. Окопный быт Первой мировой войны: очерк фронтовой повседневности.
(Фотоматериалы из русских иллюстрированных изданий периода Первой мировой войны)
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Время от времени (например, к Рождеству, Пасхе и т. д.) служивых баловали подарками разные благотворительные организации. Но не все они доходили до солдатской окопной массы. Самое ценное «прилипало к рукам» тыловых служб, оседало в штабах. Исаев 19 октября 1915 года писал с Кавказского фронта: «Возвращаюсь к подаркам. Прочел вчера случайно, что в конце сентября из Москвы привезли для Кавказского фронта целых 23 вагона… Что-то до нас доедет? Вчера мне жаловались артиллеристы, что как-то из подарков получили меховые куртки штабные отряда, а им шиш с маслом. И поэтому, если действительно хотите иметь уверенность, что подарки дошли до тех, кто в них наиболее нуждается, то надо доезжать до позиций, а не сдавать в штабы. Неужели наша команда не заслужила доли внимания со стороны общества? Три месяца походной жизни, без какого бы то ни было отдыха. Правда, только и есть, что один бой, и, слава богу, нет раненых и убитых. Но зато: за 3 месяца из 72 нижних чинов – перебывало на госпитальном лечении 18 (10 и сейчас в госпитале), из них один умер от тифа» (ЦМАМЛС. Ф. 69. Оп. 1. Д. 80. Лл. 35–40 об.).

Можно по-разному оценивать эффективность интендантских служб Русской армии в период Первой мировой войны (cм.: Аранович 2000; 2006 и т. д.), приводить статистику произведенного и доставленного на фронт продуктового и вещевого довольствия (Шубин 1997; Валяев 2012 и др.), но мнение «окопных сидельцев» всегда будет противоречить самым благополучным отчетам и цифрам, потому что каждый день задержки обоза, неважно, по чьей вине – вороватых интендантов, ленивых обозников, дорожной распутицы или вражеской артиллерии, – солдаты ощущали на собственной шкуре, вынужденные не только постоянно рисковать своей жизнью, но при этом довольно часто голодать и холодать.
Во многих письмах фронтовиков упоминается также денежное довольствие. Как правило, речь идет о том, что армия обеспечивает всем необходимым, деньги на фронте не слишком нужны и их отправляют по аттестату семьям, но выдача жалованья происходит нерегулярно. Так, Чернецов писал домой 12 ноября 1914 года: «Деньги я еще до сих пор не получил, но оказалось, что пока их и не нужно, потому что решительно не на что их тратить, а у меня еще есть 25 рублей». 17 января 1915 года он сообщает сестре: «Милая Лиза! На днях я послал домой 150 рублей, которые скопились из жалованья, да еще оставшиеся, которые были присланы из дома. Оставил себе 30 рублей на расходы, которых теперь почти нет, только иногда расходуешь на ситный. Больше решительно не на что их тратить... Жалованья я получаю теперь 38 рублей 75 копеек и еще 1 рубль 50 копеек...» (ЦДНА. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 61. Лл. 24–25). Прапорщик А. Жиглинский пишет матери 22 марта 1916 года: «Послал сегодня деньги для получения по аттестату – ты получишь порядком за это время», а 31 мая 1916 года сокрушается: «Денег так и нет, не выдавали. Сам сижу без копейки» (Жиглинский 2004: 86, 92).

Еще один важный вопрос фронтового быта – устройство жилья. Здесь существовали значительные отличия для рядового состава и офицеров, представителей разных родов войск, для тех, кто воевал на европейском театре военных действий и на «периферийном» Кавказском фронте. На формы и способы обустройства влияли природно-климатические условия и времена года. Войска, следующие к фронту, располагались на постой в населенных пунктах, в жилищах местных жителей самых разных сословий. Это могла быть и крестьянская халупа, и баронский замок. Лучшие помещения занимали офицеры. Естественно, в различных условиях находились непосредственно на передовой и в резерве, куда войска отводили на отдых.
Вот как описывает солдатское жилье прапорщик Степун (2000: 13): «Вдоль той дороги, по которой мы двигались, были расположены небольшие пехотные окопы, оказалось, что это прикрытие нашей артиллерии. Что-то нас задержало, и мы остановились; я долго беседовал с солдатами. Каждый из них живет в небольшой яме. Яма сверху наполовину прикрыта досками, внутри каждой ямы сложена из трех-четырех кирпичей печь. Была ночь; в каждой яме, в каждой печи горел огонь, и странно – мною этот огонь определенно ощущался, как огонь родного очага, и эта яма, как дом и твердыня, как кров и уют. Мне, никогда еще не видавшему позиции, стали впервые понятны рассказы участников японской кампании о том, как солдаты и офицеры привыкают к своим устланным соломою ямам, как любят они их, спасающих от раны и смерти».

Совсем иные впечатления высказывает Оськин (1989: 461–480), начинавший службу рядовым солдатом и успевший пожить в такого рода жилищах до того, как стал прапорщиком: «Жизнь в окопах, в близком соседстве от немцев, держала нас постоянно настороже – каждую минуту можно было ожидать наступления с их стороны и мы спали не раздеваясь. Самые окопы были очень неудобны и скорое напоминали зигзагообразные канавы. Рядом с окопами солдаты сами, без каких-либо указаний саперных частей, вырыли землянки – глубокие ямы, прикрытые несколькими слоями бревен, пересыпанных слоями земли. Здесь мы чувствовали себя достаточно укрытыми от снарядов, но зато не было никакого спасения от холода. Пролежать целый день в землянке было совершенно невозможно – приходилось выбегать наружу и согреваться бегом на месте. Сначала мы попробовали было устроить нечто вроде печей, но временно командующий батальоном полковник Иванов, заметив дым над землянками, строжайше запретил разводить огонь, так как немцы, мол, по дыму обнаружат месторасположение окопов и начнут артиллерийский обстрел. На наш взгляд это запрещение казалось совершенно бессмысленным – немцам все равно было известно наше расположение, так же как и мы знали, где расположены окопы немцев. Досаднее же всего было то, что над немецкими окопами мы с утра и до вечера видели дым. Очевидно, они нисколько не боялись отапливать свои убежища... Неподвижное сидение на мерзлой земле во время сильных морозов вызвало среди солдат заболевания. Люди десятками выбывали из строя – у меня из взвода ежедневно по нескольку человек уходило на перевязочный пункт с отмороженными пальцами рук и ног».

Похожую картину рисует В. Вишневский (1989: 378), описывая движение войск к Карпатам в начале кампании 1915 года: «В так называемых тесных районах квартирования приходилось по шестьдесят человек на избу… Там же, где люди не вмещались в стодолы (сараи. – Е. С.) и топтались на холоде, ожидая приказаний, штабы, устроившиеся в фольварках – господских усадьбах, – приказывали им располагаться бивуаком. Солдаты расстилали, следуя передаваемому из поколения в поколение солдатскому правилу, половину своих шинелей на снегу, ложились на них, тесно прижавшись друг к другу, и укутывались другой половиной шинелей. В темноте по снежным полям дребезжа пробирались походные кухни и кормили остывшим серым супом вылезавших из-под шинелей, дрожащих от холода солдат. Горели костры, сложенные из разломанных изгородей».
А вот опыт артиллерийского офицера Жиглинского: «В обозе скучно. Единственное развлечение – чтение и поездки в отряд, в батарею... В халупе у меня довольно уютно. Глиняный пол я устлал здешними “фабряными” холстами, кровать огородил полотнищами палаток. На стенах – картинки Борзова “Времена года”, портреты Государя, кривое зеркальце, полукатолические бумажные иконы, оружие, платье, гитара, окна завешены холстом. В углу глинобитная, выбеленная печь. На столе горит свеча в самодельном подсвечнике из банки из-под какао, лежат газеты, бумаги и рапорты, книги и карандаши и т. д. На улице холодно, сыпется сухой снег и повевает метелица. В печке весело потрескивают дрова и золотят блеском огня пол, скамьи вдоль стены. За дверью, на кухне слышны голоса мирно беседующих хозяев и денщика». Он же, находясь на передовой, писал: «10 часов вечера, уже темно. Вдали гремит канонада – уже часа три без перерыва. Я сижу в землянке, устроенной из погреба разрушенного дома. Кирпичные стены, бревенчатый потолок. Ход сообщения ведет к орудийному блиндажу. На столе – бутылка, увы, молока, хлеб и свеча» (Жиглинский 2004: 82, 91).

Индивидуальный опыт каждого участника войны был весьма разнообразен. Даже рядовые – в зависимости от того, на каком участке фронта и в какой период войны они находились, – могли время от времени пребывать в довольно комфортных «жилищных условиях», как и офицеры – ночевать под дождем, мерзнуть в окопах и неделями не снимать сапоги. Л. Войтоловский (1998: 423–424) вспоминал отступление сентября 1915 года по Полесским болотам: «Холодно. Дождь леденящими струями забирается под рубашку, и мечта о пристанище и тепле мучает еще неотвязнее, чем голод. Целый день плетемся по вязким лесным дорогам. Неужели опять ночевать в лесу под холодным дождем? …Мы вваливаемся в крохотную лесную сторожку, где застаем уже двух офицеров, полкового монаха и сторожа с кучей детей».
Война всегда оставалась не только опасным, но и напряженным, истощающим физические силы и психику человека трудом. Минуты затишья могли сменяться внезапными периодами напряженных боев. Поэтому отдых и прежде всего элементарный сон так ценились на фронте. «Война выработала привычку спать при всяком шуме, вплоть до грохота ближайших батарей, и в то же время научила моментально вскакивать от самого тихого непосредственного обращения к себе» (Чемоданов 1926: 27).
«В окопах все наоборот. Ночь и день поменялись ролями. Ночью мы бодрствуем, а днем спим. Первое время чрезвычайно трудно приучить себя к такой простой вещи. Ночью клонит ко сну, днем трещит голова. Да и трудно заснуть в связывающей тело одежде, в сапогах. Когда неделю не разуваешься – сапоги кажутся стопудовыми гирями, их ненавидишь, как злейшего врага. А распоясываться, когда противник находится в ста шагах, нельзя… Все помешались на неожиданной атаке. Ее ждут с часу на час. И потому неделями нельзя ни раздеваться, ни разуваться» (Арамилев 1989: 537). После боевой вылазки, получив приказ «Марш отдыхать в землянку!», «стряхивая с себя налипшую грязь, заползаем каждый в свое неуютное логово, чтобы забыться на несколько часов в коротком сне» (Там же: 539).

Но существовали и другие формы проведения досуга, во всяком случае, для командного состава. В Русской армии были распространены полковые собрания, где в периоды затишья офицеры могли отдохнуть. Жиглинский в письме к матери описывает царившую в них атмосферу: «Побывайте в собрании любого из полков, любой бригады! – Узкая, длинная землянка, стены обшиты досками и изукрашены национальными лентами, вензелями и гирляндами из елок. Душно, накурено. Офицерство попивает чай, играет в карты, в разные игры, вроде скачек, “трик-трак” и т. д. Шахматы, шашки... В одном углу взрывы смеха – там молодой артиллерист тешит компанию сочными анекдотами. Веселый, тучный полковник с Георгием, прислушивается, крутит головой, улыбаясь, между ходом партнера и своим. Вот он же затягивает своим симпатичным, бархатным баритоном “Вниз по Волге-реке” и тотчас десяток-другой голосов подхватывает: “...выплывали стружки...” Поет и седой генерал, и молодой прапор... За длинным, самодельным, белым столом сидит не случайная компания, а милая, хорошая семья. Главное – дружная... Соединила всех не попойка, не общее горе, – всех соединил долг и общее дело...» (ЦДНА. Ф. 118. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 14).

Офицеры музицируют.
Что касается рядовых, то, естественно, именно служба занимала основную часть солдатского времени, особенно в период боевых действий (наступления, обороны, отступления) или подготовки к ним. Но нередко были и особые периоды позиционного этапа войны или нахождения в резерве, когда заполнить время было очень сложно. И тогда главными проблемами становились элементарная скука, однообразие, невозможность найти достаточно целесообразных занятий для солдатской массы. Люди были рады любому развлечению.

Особое место на фронте занимали праздники. Их ждали, к ним готовились, их отмечали – насколько это позволяла обстановка. Они символизировали связь с довоенным прошлым, с семьей и домом, вносили атмосферу радости в тревожную и тягостную повседневность войны.
Так, 4 декабря 1914 года Чернецов заказал родным целый список разносолов и вкусностей для Рождественского стола: «Если вы захотите чего-нибудь послать мне, то только что-нибудь из съестного и, например: колбасы копченой (краковской), сыру, грудинки копченой, ветчинной колбасы, копченых селедок 2–3 и вообще разных копченых рыбных и мясных товаров; рыбных и мясных консервов (американская лососина, шпроты и разные другие). Хорошо бы прислать кеты соленой, но она, пожалуй, дорогой испортится. Можно прислать сухарей, фунта 3–4, или даже лучше сухарных обрезков (какие прислала Ольга Ивановна), прислать можно баранок; пришлите полфунта какао и каких-нибудь дешевых конфеток (1 фунт, кислых монпасье или прессованное монпасье)… Дорогая Лиза! Хорошо бы мамаша испекла бы своих знаменитых оладьев, которые хотя и зачерствели бы дорогой, но, я думаю, не очень; да, наконец, их можно здесь разогреть. Попроси об этом мамашу, а еще, может быть, она испечет лепешек на сале (таких, какие пекла бабушка, – песочные), они совершенно не черствеют и хорошо выдержат дальний путь... Чаю и сахару мне не надо, этого у нас выдают очень много, так что солдаты пьют чай в накладку. Сахар и чай жертвованный» (ЦДНА. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 61. Лл. 11–13). 22 декабря 1914 года он пишет сестре: «Немецкое Рождество прошло на нашем фронте вполне спокойно, без выстрелов орудийных и ружейных, а также спокойно прошла и ночь на их Новый год, только сами немцы сильно шумели: пели песни, свистали, хлопали в ладоши и прыгали, не смущаясь присутствием нас, а мы очень близко находились в это время от них. Сейчас уже вот несколько дней на фронте также спокойно, но только интересно, как-то пройдет наше Рождество и не потревожат ли нас сами немцы на наш праздник или на Новый год… Послали мы сообща (все солдаты нашего второго взвода) одного человека за покупками к празднику Рождества Христова в г. Сувалки; покупки – исключительно съестное: ситный, колбаса вареная, копченая, сливочное масло, сыр» (ЦДНА. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 61. Лл. 17–18). А затем сообщает: «Рождество нам придется встречать и провести на передних позициях. Жаль очень, что не придется сходить к Всенощной» (Там же).

Следующее письмо Чернецова – от 29 декабря 1914 года – содержит подробный отчет о прошедшем празднике и описание мыслей и чувств, испытанных в этот день: «Рождество Христово нам пришлось встречать на передней позиции, как я и писал ранее вам. Немцы нас совершенно не тревожили ни в сочельник, ни в самый праздник. В сочельник у артиллеристов была зажжена елка, поставленная перед землянками. Вечер был тихий и свечей не задувало. Потом им раздавали подарки и заказанные ими вещи. 27-го декабря мы ушли с передних позиций на вторую линию обороны на отдых, где и начали справлять праздник, который нам пришлось пробыть на позициях впереди. Посланный нами солдат приехал и привез из Сувалок все, что каждый солдат заказывал себе на праздник.
Находясь на позиции в сочельник вечером, как-то невольно мыслями переносился к вам в Москву. Живо представлялся вечер этот, как он проходит в Москве: сначала суетня на улицах, потом прекращение движения трамвая и постепенное прекращение уличной сутолоки, и, наконец, начинается звон в церквях, какой-то торжественный, праздничный, начало службы великим повечерием и, наконец, всенощная. Народ по окончании высыпает из церквей и расходится в радостном праздничном настроении. Здесь же было совершенно тихо и у нас, и у немцев, и даже в воздухе. Ночь была звездная и нехолодная, и эта тишина особенно нагоняла грусть, и сильнее чувствовалась оторванность от вас» (ЦДНА. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 61. Лл. 20–21).
Ф. Степун (2000: 32–33) в письме к жене от 26 декабря 1914 года также описывает атмосферу праздника: «…в сочельник, как раз к только что зажженной елке, подоспел с рождественскими подарками и посылками солдатам и нам что-то загостившийся у вас в Москве П. А. Мы мгновенно взломали ящики, и наш рождественский стол, за полчаса перед тем унылый и пустынный, словно по мановению скатерти-самобранки, превратился в нечто неописуемое, в кокой-то гастрономический цветник. По сосновым полкам над постелями каждого из нас выросли батареи ароматических бутылок с одеколоном, вежеталем и духами и стопы книг и папиросных коробок… Когда все мы, наконец, сели за стол, то настроение оказалось безгранично веселым. Впоследствии оно еще повысилось: разведчики пели хором сибирские песни, а галичане-хыровцы пришли с медведем и козой. Впрочем, всем было не только весело, у каждого на сердце жил свой минорный подголосок. Каждому вспоминалось многое свое, и каждый по-настоящему не понимал, где он и что с ним происходит…».

А вот рядовой Оськин (1989: 482–483) 26 декабря 1914 года сделал в дневнике отнюдь не праздничную запись: «В ночь под Рождество наш отдых окончился. Полк двинули ближе к позициям, и ночевать нам пришлось в крошечной деревушке, все хаты которой были заняты штабом и офицерами: солдатам пришлось размещаться по стодолам. На долю нашей роты выпал собственно даже не стодол, а нечто вроде навеса, ничем не защищенного с боков – не было даже плетней. В лучшем случае этот навес мог бы защитить от дождя, но никак не от холода. Он был совершенно пуст, и нам предстояло или провести ночь на ногах или же ложиться, прижавшись друг к другу, прямо на мерзлую землю.
Теплая погода давно уже была позабыта – снова стояли лютые морозы. Солдаты сразу же стали зябнуть. У всех мерзли ноги и руки, синели лица, и если кто-нибудь от усталости решался сесть на землю, то не мог просидеть и нескольких минут – вскакивал и начинал бегать по стодолу или вокруг него. Находившаяся поблизости небольшая халупа, занятая офицерами, казалась нам чем-то вроде недосягаемого дворца. Под всевозможными предлогами солдаты старались забежать на несколько минут в эту хату, чтобы хоть чуточку погреться, но хата была настолько мала, что даже разместившиеся в ней офицеры лежали просто на полу. Чердак был занят “привилегированными”, вроде ротных санитаров, ротного писаря, фельдшера и каптенармуса. С нетерпением ждали мы утра, чтобы избавиться от мучений. Нам казалось, что даже в окопах, как ни будь они плохи и опасны для жизни, будет теплее».
25 декабря 1915 года оставил дневниковую запись о Рождестве прапорщик Бакулин: «Для первого дня праздника погода стоит гнилая, вот уже 3-й день тает. И весь снег сошел. Солдатам делают везде елку, выписали гостинцы, как-то: орехи, пряники, конфеты-леденцы. Выдан белый хлеб, колбаса и улучшена пища. Также украшают елки, с которых раздают гармонии, балалайки, ножички, ложки, зажигалки, папиросы, бумагу, конверты и всевозможную мелочь. Это вносит веселье и радость, а то все однообразие до одури» (Из дневников… 1999: 80).

А вот описание им Пасхи выглядит скучнее: «Встретили Пасху невесело, церковной службы не было, костела вблизи тоже нет. Собрались все в нашем собрании, название громкое, но помещение весьма плохое, похристосовались в час ночи на 22 марта, разговелись, так как кулич на Пасху имели из Белостока, в третьем часу разошлись по домам…» (Из дневников… 1999: 55).
Иначе встретил Пасху Степун: «21-го, т. е. в Страстную субботу, нам была неожиданная радость. В то время как я был на наблюдательном пункте, мне вдруг потелефонили с батареи, что прибыл полковник, командир казачьего дивизиона, который просит меня спуститься вниз. От себя телефонист радостно прибавляет, что “слышно, нас сменяют”. Я кубарем качусь на батарею и обстоятельно докладываю полковнику всю обстановку…
В шесть вечера казаки с гиком и свистом нагаек подымают свои орудия на гору, а я сажусь верхом и барином еду вниз. Приехав, я застаю у себя в комнате привезенные из Москвы Грациановым ящики. Настроение у меня самое светлое, самое пасхальное. Семен тащит воды холодной и теплой и готовит шампунь для головы, бритву-жилет, одеколон. На койке он раскладывает чистое белье, новую кожаную куртку, новые перчатки и новый стек, все подарки, привезенные В. И. Как хорошо, что все пришло так вовремя, как вдвое хорошо, что под Светлое Воскресение судьба разъединила меня и пушки.
Я тщательно моюсь, бреюсь и медленно одеваюсь… Мой туалет завершают фиалки, которые живо напоминают мне твои единообразно-изящные шляпы и весь твой пленительный образ; на шелковом платке присланные тобою духи...
В девять мы сели за легкий обед, новый командир, Вильзар, я и двое гостей. Пообедав, мы окончательно прибрали комнату, накрыли пасхальный стол: кулич и пасха, присланные из Москвы, пасха, “сооруженная” нашим хозяйственным командиром, львовский окорок ветчины…, яйца, очень удачно выкрашенные луком, красными канцелярскими чернилами и лиловой мастикой для казенных печатей, две бутылки вина (Вильзар получил красное, а я твое “Опорто”) и бездна всяких сладостей.
В одиннадцать мы поехали в Свидник, небольшой, окончательно разрушенный и нами, и австрийцами городок (в нем штаб дивизии и управление бригады), в котором была назначена служба…

Ночь была чудная: теплая, тихая, звездная, полная немых надежд и тихих упований. Я ехал все время шагом. Колесников далеко позади, так что я еле слышал переступанье его лошади. Каждый по-своему думал о своем…
Приехав в Свидник, мы зашли в управление бригады, откуда целою гурьбой направились в церковь. Старая, причудливая, она смутно выделялась своими белыми стенами из сумрака еще безлунной ночи и заунывно звала своим великопостным звоном.
Церковь была полна солдат, лишь кое-где по углам, при входе, притаилось несколько галичан в белых расшитых костюмах. Мы прошли вперед; в левом пределе собралось все офицерство с начальником дивизии во главе. Началась служба. Мы отстояли только заутреню (командир очень спешил домой), похристосовались друг с другом и вышли. Месяц стоял уже высоко на небе. Само небо было светлее, глубина ночи – мельче. Было два часа утра. Чувствовалось, что ночь идет на убыль и что завтра взойдет светлый, солнечный день, светлое Христово Воскресение.
Разговевшись дома, мы поздно легли спать и проснулись… лишь к десяти утра. За окнами виднелось яркое синее небо. Золотые снопы солнечных лучей жарко горели на нашем самоваре и светлыми зайчиками дрожали на потолке. Слышалась лихая гармоника и неустанный топот солдатской пляски.

Одевшись, я вышел на шоссе в деревню. Картина была крайне живописная: всюду пестрые группы галичан, – женщины, дети и старики, краснопапашечные казаки в лихих вихрах, нарядные гусарские мундиры и наши серые артиллеристы, все это, забыв все, кроме того, что нынче праздник, жило одною, общей жизнью, пело, плясало, гуторило, смеялось.
После чая мы с Вильзаром велели оседлать лошадей и в самом безоблачном настроении поехали опять в Свидник с визитами к начальству. Но тут нас ждало жестокое разочарование. Оказалось, что нам сегодня же нужно двигаться вниз по фронту, чтобы 23-го на рассвете принять участие в назначенном всеобщем наступлении» (Степун 2000: 57–58).
Другой офицер, Исаев, писал своим детям с Кавказского фронта: «Вы вот спали под Пасху в теплых своих кроватках, а в это время сколько и солдат и казаков стояло на часах. Стоят и всматриваются в ночную темь, прислушиваются, не подползает ли враг. А сами думают, что где-то далеко-далеко в их селах и станицах их близкие молятся в храмах, поют: “Христос Воскресе”. Вспоминают солдаты, как они когда то вместе со своей семьей встречали Пасху, и теплится в их сердце вера, что придет время и вернутся они к своим...» (ЦМАМЛС. Ф. 69. Оп. 1. Д. 87. Лл. 10–11 об.).

Непосредственное отношение к военной повседневности имеют проблемы, связанные с санитарно-гигиеническими условиями и вытекающей из них опасностью вспышек инфекционных заболеваний. Они особенно остры для массовых войн, затрагивающих не только собственно армейский контингент, но и гражданское население. Гигантская миграция огромнейших людских масс (передвижения воинских частей, эвакуация раненых в тыл и возвращение выздоровевших в действующую армию, перемещение гражданского населения из прифронтовых районов в глубь страны, из городов в деревни и обратно) в сочетании с резкой перенаселенностью, нехваткой жилья, катастрофическим ухудшением условий жизни и голодом, – все эти факторы являются пусковым механизмом для развития эпидемических болезней. На протяжении многих столетий действовал неотвратимый закон: войны всегда сопровождались эпидемиями.
В Первую мировую войну одной из главных проблем, связанных с санитарно-гигиеническими условиями и вытекающей из них опасностью инфекционных заболеваний, была борьба с педикулезом, постоянно угрожавшим массовыми вспышками эпидемий, прежде всего сыпного тифа. Опасность усиливалась позиционным характером войны: войска долгими месяцами пребывали в одних и тех же окопах и землянках, которые вместе с людьми обживали и насекомые-паразиты. «В геометрической прогрессии размножаются вши. Это настоящий бич окопной войны. Нет от них спасения. Некоторые стрелки не обращают на вшей внимания. Вши безмятежно пасутся в них на поверхности шинели и гимнастерки, в бороде, в бровях. Другие – я в том числе – ежедневно устраивают ловлю и избиение вшей. Но это не помогает. Чем больше их бьешь – тем больше они плодятся и неистовствуют. Я расчесал все тело... Охота на вшей, нытье и разговоры – все это повторяется ежедневно и утомляет своим однообразием», – вспоминал Арамилев (1989: 537–538). Бытовая проблема не только имела самостоятельное значение (санитарные потери снижали боеспособность войск), но и перерастала в проблему психологическую, подрывая моральный и боевой дух личного состава.

Впрочем, не менее грозными в той войне были желудочные инфекции, особенно брюшной тиф, холера и дизентерия, преследовавшие русскую армию на протяжении всей войны, но особенно на заключительной ее стадии, когда происходил развал армии, систем управления и снабжения, а также медицинской службы.
Оськин писал в декабре 1914 года с Юго-Западного фронта: «Когда, после нескольких дней похода, мы приблизились к устью реки Ниды, в полку обнаружились заболевания холерой. Сначала заболевания носили единичный характер, но чем ближе подходили мы к устью Ниды, тем больше и больше заболевало народу. Наконец, по распоряжению свыше, полк был назначен в карантин. Для этого заняли одну из деревень. Вокруг деревни была выставлена охрана, никого не пропускавшая за околицу. В какие-нибудь три-четыре дня слегла половина полка. Хаты, в отведенном для больных конце деревни, были набиты до отказа, и нельзя было без содрогания смотреть на все, что делалось внутри их. Люди корчились в судорогах, извиваясь всем телом и изрыгая остатки пищи. Многих, не евших уже в течение нескольких дней, рвало какой-то страшной зеленой жидкостью. Лица больных, острые, бледно-синие, казались неживыми, и лишь судорожные движения, вызванные рвотой, указывали, что они еще живы. Полковые санитары сбивались с ног, бегая от одного больного к другому.

Когда, благодаря принятым мерам, холерные заболевания пошли на убыль, поступило распоряжение двигаться дальше, по направлению к Новому Корченю.
Раньше я думал, что заболевания холерой непременно кончаются смертью. Однако на деле это было далеко не так. Солдаты, заболевшие в походе, догнали нас в Новом Корчене уже совсем здоровыми. Крепкий организм побеждал холеру не более чем в две недели. Больше всего смертных случаев было с солдатами-татарами. Чем объяснить это – не знаю…
В Новый Корчень мы вступили за несколько дней до Рождества. Нас на первое время оставили в резерве, чтобы дать солдатам отдохнуть после эпидемии» (Оськин 1989: 482).
Проблемы санитарно-гигиенического характера во время войны приобрели поистине гигантские масштабы. При общей численности мобилизованных в Русскую армию 15,5 млн. человек только госпитализированных за время войны военнослужащих, нуждавшихся в продолжительном лечении, учтено около 5,15 млн. человек, из них раненых свыше 2,8 млн. чел. и заболевших – более 2,3 млн. человек (Россия… 1925: 4, 25.), при этом умерли именно от болезней свыше 155 тыс. человек (см.: Урланис 1960: 174; Россия… 1925: 100; Кривошеев и др. 2010: 95). А всего в период Первой мировой войны и последовавшей сразу за ней Гражданской только сыпной тиф поразил в нашей стране, по разным подсчетам, от 10 до 25 млн. человек (Мирский 1991: 142).

В заключение необходимо отметить, что от качества солдатского быта, его организации во многом зависят моральный дух войск и их боеспособность, а недостаточное внимание к отдельным бытовым факторам нередко негативно сказывается на ходе боевых действий или приводит к неоправданно большим потерям. В данной статье затронуты лишь некоторые проблемы окопного быта Русской армии в годы Первой мировой войны, являющегося важной частью фронтовой повседневности, изучение которой во всем ее многообразии и противоречивости позволит глубже понять «человеческий ракурс» новейшей военной истории, тот трудноуловимый субъективный фактор, который в экстремальных условиях войны может неожиданно перевесить все факторы материальные и оказаться «последней каплей», склоняющей чашу весов в сторону побед или поражений.
Литература
Арамилев, В. 1989. В дыму войны. Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М.: Молодая гвардия, с. 537–543.
Аранович, А. В. Интендантство Русской армии накануне и в годы Первой мировой войны: дис. … канд. ист. наук. СПб. 2000.
Интендантское снабжение Русской армии во второй половине XIX – начале XX века: дис. … д-ра ист. наук. СПб. 2006.
Валяев, Я. В. 2012. Фронтовой быт военнослужащих российской армии в годы Первой мировой войны (август 1914 – февраль 1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. Белгород.
Вишневский, В. В. 1989. Война. Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М.: Молодая гвардия, с. 374–387.
Войтоловский, Л. Н. 1998. Всходил кровавый Марс: По следам войны. М.: Воениздат.
Головин, Н. Н. 1997. Обширное поле военной психологии. Душа Армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооруженной силы. Российский военный сборник. Вып. 13. М.: Русский путь, с. 15–36.
Дрейлинг, Р. К. 1997. Военная психология как наука. Душа Армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооруженной силы. Российский военный сборник. Вып. 13. М.: Русский путь, с. 156–166.
Жиглинский, А. Н. 2004. Реквием. М.: Государственная публичная историческая библиотека России.
Из дневников офицера русской армии Бакулина (1914–1917 гг.). Публикация Т. К. Кудзаевой и Э. П. Соколовой. 1999. Голоса истории. Материалы по истории Первой мировой войн:. сб. научных трудов. Вып. 24. Кн. 3. М.: ГЦМСИР, с. 41–122.
Изместьев, П. И. 1923. Очерки по военной психологии. Некоторые основы тактики и военного воспитания. Пг.: Воениздат.
Краснов, П. 1997. Душа армии. Очерки по военной психологии. Душа Армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооруженной силы. Российский военный сборник. Вып. 13. М.: Русский путь, с. 37–155.
Мирский, М. Б. 1991. Обязаны жизнью. М.: Политиздат.
Окунев, Я. 1989. Воинская страда. Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М.: Молодая гвардия, с. 493–504.
Оськин, Д. 1989. Записки солдата. Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М.: Молодая гвардия, с. 480–485.
Падучев, Вл. 1989. Записки нижнего чина. Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М.: Молодая гвардия, с. 533–537.
Рид, Дж. 1989. Вдоль фронта. Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М.: Молодая гвардия, с. 381–387.
Россия в мировой войне 1914–1918 гг. (в цифрах). М., 1925. С. 4, 25.
Кривошеев, Г. Ф., Андроников, В. М., Буриков, П. Д. и др. (ред.). 2010. Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь. М.: Вече.
Степун, Ф. А. (Н. Лугин). 2000. Из писем прапорщика-артилле-риста. Томск: Водолей.
Урланис, Б. Ц. 1960. Войны и народонаселение Европы. М.: Изд-во социально-экономической литературы.
Чемоданов, Г. Н. 1926. Последние дни старой армии. М.; Л.: Гос-издат.
Шубин, H. A. 1997. Проблемы снабжения русской армии в условиях Первой мировой войны: опыт взаимодействия государства и общественных организаций. 1914–1917 гг.: дис. … канд. ист. наук. М.
Архивы:
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив.
ЦДНА – Центр документации «Народный архив».
ЦМАМЛС – Центральный московский архив-музей личных собраний.

 Вывод из запоя на дому в Нижнем: арт-пространства как путь к новой жизни
Вывод из запоя на дому в Нижнем: арт-пространства как путь к новой жизни 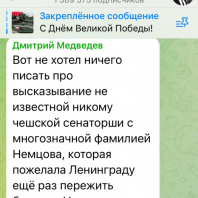 Дегенеративная европейская тварь
Дегенеративная европейская тварь  Дятел прилетел
Дятел прилетел  Потогонная система для мозгов
Потогонная система для мозгов  Мария Браславская
Мария Браславская  Штормит
Штормит  Контрольная точка: Полночь
Контрольная точка: Полночь  Урожай
Урожай  Как гарантированно уничтожить себя и изуродовать все свои будущие поколения?
Как гарантированно уничтожить себя и изуродовать все свои будущие поколения? 



