О насилии в кино вообще, корейском кино и джалло в частности
 nomen_n — 25.06.2011
Размышления, спровоцированные дискуссиями в ЖЖ френдов
nomen_n — 25.06.2011
Размышления, спровоцированные дискуссиями в ЖЖ френдовКогда мы говорим о насилии в кино, неизбежно возникают несколько вопросов. Что, как и насколько детально допустимо показывать – один из них. Следующий – уровень натуралистичности. Далее – возможно ли оправдать подобные сцены художественной задачей. Является ли наказание зла обязательным. Правильно ли делать зло эстетически привлекательным. Не думаю, что хотя бы на один из них есть простой и однозначный ответ. Финальная победа зла, как в «Семи» Финчера, лично мне кажется страшнее любой попытки устроить в кадре анатомический театр. Хотя на самом деле таких театров в художественном кино и не бывает, постановщики зрелищных картин не имитируют в своих трудах топографические срезы, тошнотворный натурализм насилия – это, скорее, «Короткий фильм об убийстве», чем потоки кетчупа на экране. Допустимый уровень детализации – и вовсе индивидуальный критерий, который зависит от толерантности конкретного индивидуума.
Кино давно отреклось от традиционных табу, еще в 60-70х дети могли быть и жертвами, и убийцами, а священнослужители оказывались маньяками, в джалло и хоррорах нам демонстрировали вырванные глазные яблоки или выпотрошенных животных. Военные фильмы последних десятилетий наперебой соревнуются в количестве оторванных конечностей и пр. неприглядных картинах, прикрываясь мыслью, что нам показывают ужасы, которых мы не должны допустить. Как далеко можно зайти? Кто знает, планка была и всегда будет плавающей, если сдвинуть ее к нулю, можно смело возвращаться к радиоспектаклям. Но чем с формальной точки зрения (визуальный подход к аналогичным сценам) корейские триллеры отличаются, к примеру, от джалло, используя сопоставимый уровень насилия? А насилие джалло может казаться натуралистичным, вспомним судебное разбирательство, связанное с «Ящерицей в женской коже», когда несчастные зверьки Римбальди-Фульчи были приняты за настоящих. Вероятно, корейские фильмы более серьезны, в то время как постановщики эксплуатационных картин превращают сакральные темы в повод для циничной игры. Но чем с позиции морали профанация danse macabre и превращение убийства в устранение пластиковых пупсов лучше аргументированного насилия, за которым следует воздаяние? Меня не оскорбляет ни то, ни другое, развитие кино всегда было синонимом преодоления ограничений, быть может, впереди на этом пути только регресс, но одно можно сказать с уверенностью: попытка конвейерной имитации салонных конструкций прошлого априори обречена на провал.
Рассказывая о деяниях Джека Потрошителя, можно демонстрировать только расследование Холмса и снимать детектив; показывая обе стороны, реально превратить историю в триллер; сосредоточившись на охоте маньяка и страхе его жертв, легко получить хоррор. Корейские фильмы выбирают (условно) второй вариант, нередко компенсируя его восстановлением справедливости в финале. Когда-то этим занимались Дюпен и отец Браун, Марло сменил Майк Хаммер, современные стражи порядка в виде корейских полицейских с дубинками, по большому счету, продолжают тенденцию. От интеллектуальных упражнений в курительной комнате к поиску отморозков в злачных закоулках. Наверное, я догадываюсь, почему отголоски творчества Финчера так часто заметны в корейском кино: он первым показал, что в душе и города, и человека порой может быть лишь мрак, и позволил этой тьме затопить экран.
Вопрос, на который сложнее всего ответить, – где разместить уже упомянутую планку, если бесконечность оси – это снафф. Любой из нас может провозгласить, что я-де сочту для себя неприемлемым фильм, в котором есть акцент на пытках или сцены насилия занимают неоправданно много экранного времени. Я тоже так думаю, но невольно вспоминается, что лет 40 назад эпизод с актрисой топлес мог показаться советскому зрителю порнографией, а победа зла стала бы шоком для кинолюбителя времен Производственного кодекса. Полагаю, это во многом вопрос перспективы и собственного киноменю.

 Наука о шторах блэкаут и сне детей
Наука о шторах блэкаут и сне детей 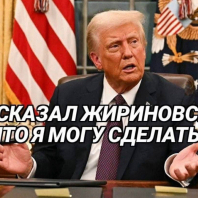 Он сам нихрена не знает. Ему скажут.
Он сам нихрена не знает. Ему скажут.  Пацаны, чьи?
Пацаны, чьи? 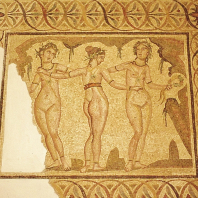 Помпеи, городок из эпохи Возрождения, унесенный в античность
Помпеи, городок из эпохи Возрождения, унесенный в античность  Santa Marina, Sozopol, 3
Santa Marina, Sozopol, 3  Омск сталинский
Омск сталинский  КОТельная
КОТельная 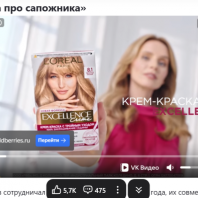 Рано обрадовалась!
Рано обрадовалась!  «Как тебе такое, Илон Маск?»
«Как тебе такое, Илон Маск?» 



