Никиев мир и переосмысление политики Афинами, 421–413 гг. до н. э.
 shlomo_zimerman — 24.09.2025
shlomo_zimerman — 24.09.2025
Мирный договор и союз, заключённые Афинами и Спартой в 421 году, были рассчитаны на пятьдесят лет. Они продлились восемь. Тем не менее, Фукидид, как известно, отверг представление о Никиевом мире как о подлинном мире, прерываемом одним из крупнейших сухопутных сражений всей войны (при Мантинее в 418 году), неэффективными союзами и возобновлением военных действий. Поэтому он реконструировал войну как один долгий двадцатисемилетний конфликт – историографическое решение, оказавшее огромное влияние. Но если на мгновение отвлечься от этого и оценить точку зрения большинства афинян и других греков, то перед нами предстаёт иная картина. Как и в случае с более ранним «Тридцатилетним миром» 446 года (который продлился пятнадцать лет), Афины сохранили свою империю практически нетронутой и, освободившись от гнета войны со Спартой, смогли заняться незавершёнными делами и разработкой масштабных планов.
Незавершенное дело включало покорение Мелоса, большого острова из архипелага Киклад, изначально колонизированного Спартой, и успешно отразившего попытку Афин в 427 году присоединить его к своим владениям. Расположенный на южном периметре архе в Эгейском море, богатый такими ресурсами, как обсидиан, Мелос был очевидной целью для завоевания; предоставление острову возможности наслаждаться своей независимостью, в то время как все остальные острова региона подчинялись Афинам, лишь отражало — как это представляет Фукидид — слабость Афин. Итак, в 416 году, воспользовавшись миром и восстановленными финансами, афиняне предприняли вторую попытку. При чтении знаменитого Мелосского диалога Фукидида может сложиться впечатление, что остров был легкой добычей — один остров против могущественной мощи Афин. Но это не так. Афиняне сокрушили Мелос только после длительной осады и с помощью предательства внутри города. После осады и капитуляции все мужчины, женщины и дети, которых удалось схватить, были либо убиты (в случае мужчин), либо обращены в рабство (как и женщины и дети). Остров стал владением Афин с 500 поселенцами.
В отличие от Кикладских островов, входивших в афинскую архе и не чеканивших монеты после 450-х годов, Мелос чеканил монеты непрерывно до последней четверти века, что отражало его независимость, вплоть до завоевания острова Афинами. Последние этапы этой чеканки особенно хорошо известны по кладу из примерно ста статеров, зарытому в горшке на острове во время афинского нападения.
Далее — ещё одна незавершённая работа и масштабные планы. В том же 427 году Афины отправили экспедиционный корпус на Сицилию в ответ на просьбу своего союзника Леонтин, которому угрожал могущественный сосед Сиракузы. По словам Фукидида, Афины руководствовались и другими целями: во-первых, изучить возможность завоевания острова и, во-вторых, прервать торговлю зерном с Пелопоннесом. Это вмешательство также не достигло своих целей. Мир, однако, позволил афинянам возродить интерес к Сицилии, на этот раз вызванный не только леонтинцами, но и просьбой о помощи от другого союзника, Эгесты, негреческого, но эллинизированного города на северо-западе Сицилии, воевавшего со своим грозным южным соседом, Селиносом, союзником сиракузян. После захвата Мелоса афиняне предприняли крупную экспедицию на Сицилию, якобы для помощи эгестинцам, но имея в виду более масштабную цель – Сиракузы, самый могущественный и богатый город, богатство которого отражалось в внушительной чеканке серебряных монет. Завоевание Сиракуз стало бы для афинян ключом к установлению контроля над Сицилией. Чтобы убедиться в их намерениях, достаточно взглянуть на места их военных действий на острове: они сосредоточились на восточном побережье, в Сиракузах и их окрестностях. Эгеста же и Селинос находились на западе.
Эгестинцы, обещавшие полностью профинансировать афинскую экспедицию, оказались двуличными. Хотя изначально они прибыли в Афины с шестьюдесятью талантами серебряных слитков — суммой, которой хватило бы на содержание шестидесяти кораблей в течение месяца, — когда афиняне собирались переправиться из Италии в Сицилию, эгестинцы смогли предоставить всего тридцать талантов, что было очень далеко от суммы, необходимой для оплаты флота, отправленного Афинами и их союзниками для длительной кампании.
Отсутствие ожидаемого финансирования стало шоком для афинских полководцев, за исключением Никия, и заставило их изыскать достаточно средств из других источников, если они вообще собирались продолжить экспедицию. Ранее Фукидид упоминает об «огромной сумме денег», вывезенной из Афин; но его внимание сосредоточено главным образом на частных расходах на великолепный внешний вид кораблей и их оснащение («он был самым дорогим и красивым», и его слава среди других греков основывалась на «его смелости и великолепии его внешнего вида»).
Документальные свидетельства о том, сколько денег афиняне взяли с собой на Сицилию, фрагментарны и являются предметом научных споров относительно их количества, учитывая, что это зависит от реставраций — всегда плодородной почвы для споров. Свидетельством служит фрагментарный указ, который, как считается, относится к подготовке к экспедиции, в котором упоминается «тысяча», восстановленная как «три тысячи талантов», выделенных на экспедицию; Однако неясно, относится ли эта цифра к деньгам или к чему-то иному, и сомнительно, что в 415 году афиняне, ожидавшие финансирования из Эгесты, выделили бы такую крупную сумму на кампанию, прежде чем обнаружили неплатёжеспособность эгестинцев. Другая надпись, сообщающая о четырёх выплатах из казны Афины за 418–414 годы военачальникам на Сицилии, также фрагментарна, но в любом случае не может быть согласована с предполагаемыми значительными расходами на экспедицию. Ещё один фрагментарный документ перечисляет взносы сицилийских городов, таких как Наксос и Катана, но неясно, относятся ли они к кампании 427 года, упомянутой ранее, или к кампании 415 года. Короче говоря, хотя мы, вероятно, должны предположить, что из казны Афины поступали существенные выплаты в дополнение к суммам в 300 и 150 талантов, упомянутым Фукидидом, имеющиеся данные оставляют много вопросов без ответа.
Во время Мирного договора афиняне решили радикально перестроить структуру доходов архе. Фукидид приводит единственное свидетельство этого нововведения, которое заменило дань общеимперским морским налогом в размере 5 процентов (эйкоста). Однако он рассматривает его в контексте возобновившейся войны 413 года:
Теперь, спустя семнадцать лет после первого вторжения, и к тому времени полностью измотанные войной, афиняне отправились на Сицилию и ввязались в новую войну, столь же обременительную, как и их давний конфликт с Пелопоннесом. Всё это, в сочетании с огромным ущербом, нанесённым [форту] Декелеи, и другими тяжёлыми расходами, подорвало их финансовое положение. Примерно в это же время они вместо дани ввели для своих союзников пятипроцентный налог на морские товары, полагая, что это принесёт им больше дохода. Их расходы не остались на прежнем уровне, а значительно выросли по мере разрастания войны и сокращения доходов.
Фраза Фукидида о пятипроцентном налоге на, буквально, «то, что перевозится морем» относится к налогу на груз, который, как известно из повсеместной практики античности, взимался как с импорта, так и с экспорта. Хотя нет оснований сомневаться в относительной хронологии Фукидида, касающейся введения налога («примерно в это время», описание событий зимы 413 г.), необходимо усомниться в контексте принятия решения, приведшего к замене дани налогом: историк представляет эйкосту как экстренное военное решение проблемы снижения доходов, подразумевая, что решение было принято на месте, в разгар формально возобновившейся войны.
По сути, военное время было последним контекстом, в котором граждане в Народном собрании могли бы подумать, что морской налог принесёт больше дохода, чем любой другой вид сборов. Морская торговля процветала в мирное время. (Упомянутая ранее пьеса Аристофана «Торговые суда» была отнесена одним из античных комментаторов к числу его «мирных пьес».) Во времена конфликтов грузовые суда становились желанной мишенью для нападений – одним из первых актов насилия в Пелопоннесской войне стало массовое убийство спартанцами торговцев, как из нейтральных, так и из вражеских государств, плававших вокруг Пелопоннеса. Однако с заключением мира у афинян были основания задуматься о прибылях от торговли, где налогообложение было в центре внимания. С этой точки зрения нам необходимо рассмотреть два других важных вопроса: обоснование изменения и продолжительность периода между планированием и введением налога.
Во-первых, обоснование. В основе налога лежало полное переосмысление изъятия ресурсов из архе и взаимосвязи между этим переосмыслением и представлением афинян о своей империи как о хозяйственно-экономическом и торговом образовании. Вопрос в том, почему. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно оглянуться назад. Во время войны расходы Афин, что неудивительно, резко возросли. Возможно, также неудивительно, что подданные воспользовались войной, чтобы отказаться от своих даннических обязательств. Финансовые проблемы возникли уже в 428 году, когда богатейшим афинянам пришлось платить прямой подушный налог – отвратительный для греков – в размере 200 талантов.
Эпиграфические записи, в частности, говорят о многом. Около 426 года афиняне по предложению Клеонима приняли указ об улучшении сбора дани по всей империи путём назначения местных сборщиков дани в городах, которые, предположительно, несли личную ответственность за уплату всей суммы. В следующем году, 425, они одобрили внеочередной пересмотр дани, увеличив суммы, подлежащие уплате многими городами, по крайней мере вдвое или втрое по сравнению с прежними. На Акрополе была установлена ещё одна огромная мраморная стела (такая же внушительная, как Лапис Примус), чтобы провозгласить это решение самым смелым, можно сказать, устрашающим образом; Афины были настроены серьёзно. Но их подданные, похоже, не были запуганы демонстрацией силы, провозглашённой в указе. Не найдено ни одного камня, даже самого крошечного фрагмента с надписью, подтверждающего успех Афин в сборе чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего новую дань, наложенную на эти города. Однако редакторы «Афинских списков дани» упорно отвергали возможность того, что цели дани не были достигнуты. Однако к такой возможности следует отнестись серьёзно: если афиняне испытывали трудности с достижением целевых показателей дани, повышение этих показателей, безусловно, не было реалистичным решением. Постановление, вероятно, последовавшее за переоценкой в 425 году, прямо говорит о продолжении кризиса, о чём отчасти свидетельствует возросшая активность Совета (или Буле) из 500, органа, наиболее тесно участвовавшего во внутренних и имперских финансах города. По предложению Клейниаса, в нём описывается сложная процедура идентификационных печатей, призванная предотвратить, очевидно, широко распространённую коррупцию и мошенничество на различных этапах передачи городской дани Афинам. Ненадёжность и сложность системы дани составляют важнейшую основу для понимания решения афинян ликвидировать этот фискальный и политически ангажированный институт.
Важно понимать, что убедить большинство афинян отменить дань, институт, который в фундаментальном отношении определял империю и власть афинян над своими подданными с 478 года, было непросто. Более того, поскольку столь сложная и смелая инициатива требовала значительного планирования и предварительной организации, между замыслом и реализацией должен был пройти не менее года, а это значит, что инициатива возникла и развивалась до Сицилии и Декелеи, в мирное время со Спартой.
Тем не менее, всем была известна прибыльность морских налогов, особенно вездесущих 2-процентных таможенных пошлин на импорт и экспорт – самого прибыльного источника дохода для всех городов с действующими портами. Со своей стороны, афиняне имели опыт эксплуатации ресурсов архе благодаря контролю над ключевыми эмпориями на севере и Геллеспонтским движением, которое фактически создавало замкнутое море и, следовательно, приносило прибыль от налогов, взимаемых с кораблей, проходивших через узкий пролив из Черного моря (через Босфор и Пропонтиду) в Эгейское. Короче говоря, афиняне давно считали своим долгом контролировать морскую торговлю в пределах своего государства. В условиях устоявшейся даннической империи новая налоговая политика была новшеством, даже революционным, подобно тому, как создание афинянами даннической империи было новшеством в греческом контексте. С политической точки зрения оба эти шага были радикальными, но с экономической точки зрения в то время морской налог имел здравый смысл. У нас нет убедительных доказательств того, кто был ответственен за уплату дани, но мы знаем, что этот налог ложился на торговцев, включая неграждан, в большей степени, чем на города; в то же время афиняне могли полагать, что эта мера будет менее обременительной, чем дань, со всеми её символическими и практическими последствиями. Но главное заключается в том, что торговля означала прибыль. Все города с портами взимали морские налоги на своей территории; для афинян их «собственная территория» теперь включала всю архе.
Мы можем лишь догадываться о деталях организации эйкосты. В греческих городах сбор грузовых налогов обычно был приватизирован, передан частным лицам или синдикату, претендовавшему на управление франшизой от имени государства (лучше всего это задокументировано в Афинах в сочинении Андокида «О мистериях», где упоминается пентекоста, двухпроцентный налог). Для откупщиков эта система была сопряжена с риском, поскольку они были должны государству сумму, предусмотренную договором, независимо от того, могли ли они собрать её в виде налогов; следовательно, им приходилось представлять доказательства существенной финансовой поддержки в рамках торгов и вносить первоначальный взнос. Хотя процедура была достаточно простой, чтобы её можно было регулярно применять в отдельных городах, перед афинянами стояла задача централизованного управления всеми местными сборами таким образом, чтобы гарантировать справедливое, полное и регулярное получение доходов и их передачу Афинам.
Афинские планировщики имели доступ ко всем прошлым налоговым отчётам и тендерным контрактам, которые хранились в городах, находящихся в их сфере власти, и, таким образом, могли оценить будущие доходы от эйкосты. Они также опирались на свой многолетний опыт налогообложения морской торговли за рубежом. С 470-х годов Афины получали прибыль от налогов, взимаемых с эмпорий, сначала с Эона в устье Стримона, а затем вдоль ряда эмпорий на фракийском побережье, захваченных у Фасоса. На Геллеспонте «Стражи Геллеспонта» (Hellespontophylakes) организовали таможню не позднее начала Пелопоннесской войны (что засвидетельствовано в Мефонском декрете). Они взимали грузовой и транзитный налог с каждого судна, проходившего через этот узкий пролив.
Тем не менее, учреждение эйкосты потребовало принятия целого ряда новых решений. Будет ли новый налог сверх уже существующих налогов в городах, имеющих гавани? Потребуются новые должностные лица, такие как эйкостолог на Эгине, упомянутый в «Лягушках» Аристофана. В то время Эгина была населена афинянами, но из этого упоминания мы не можем сказать, был ли этот чиновник местным афинянином или столичным. Будут ли отбираться сборщики налогов по конкурсу? Какова будет их квалификация? Будут ли они местными жителями в городах? Должны ли афиняне играть какую-либо роль? Предположительно, также требовалось разработать директивы о ведении налоговой отчетности, чтобы её можно было отправлять в Афины для аудита (афиняне были особенно щепетильны в вопросах прозрачности и подотчётности, когда речь шла о деньгах и финансах). Какое бы решение ни было принято, процедуры должны были быть стандартизированы в масштабах всей архе, как и инструменты налогообложения: весы и меры, необходимые для оценки стоимости грузов, и валюта, в которой налоги выражались и уплачивались. Как бы ни подходили местные системы мер и валют для местного налогообложения, для глобального налогообложения, воплощенного в афинской эйкосте, эффективность и прозрачность оценки, уплаты и аудита требовали, чтобы стандарты мер и валют также были глобальными.
|
|
</> |

 Рублевые вклады с повышенной ставкой: как новым клиентам получить максимальный доход
Рублевые вклады с повышенной ставкой: как новым клиентам получить максимальный доход  Требовал перевода культурной среды РФ в «патриотическую плоскость»
Требовал перевода культурной среды РФ в «патриотическую плоскость»  О триумфе «зетников» Путин снова всех переиграл?
О триумфе «зетников» Путин снова всех переиграл?  Кошкин дом
Кошкин дом  Эпизодическое
Эпизодическое  Юлиус дал мне миллион долларов: что с ним делать?
Юлиус дал мне миллион долларов: что с ним делать? 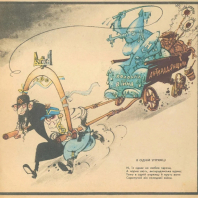 Мой комментарий к записи «після 1960-х у СРСР фактично залишилося два потужних
Мой комментарий к записи «після 1960-х у СРСР фактично залишилося два потужних  Синнабоны
Синнабоны  Без названия
Без названия 



