Началось... ч.6
 tatiana_gubina — 06.05.2011
tatiana_gubina — 06.05.2011
«Половину поля площадью 4 га засеяли пшеницей. Собрали по 8 центнеров зерна с гектара. Сколько собрали пшеницы?»
Про то, что она «не может решать задачи», она сказала сразу. Так и сказала – «не могу». На вопрос: «А почему не можешь?», она, запинаясь, объяснила, что задачи она решать не может, потому что не знает ответов. Сказать по правде, я сначала не могла взять в толк, а что она, собственно, имеет в виду. Никто не знает ответов заранее. Для того и задача, чтобы ее решать. Пообщавшись с моей девочкой на эту тему, и с трудом вытянув из нее несколько невнятных реплик, я поняла, что для нее слово «решать» не имеет никакого смысла.
Сначала тебе дают непонятный текст. В нем перемешаны неизвестные слова с разными цифрами. Если выстроить цифры в правильном порядке, то тебя похвалят. Если не выстроить, то будут ругать. Значит, надо пробовать и переставлять цифры снова и снова, пока не получится то, что хотят взрослые.
- Ну давай подумаем, с чего начать решение этой задачи?
Молчит. Доооолго молчит. Можно даже предположить, что – думает. Вряд ли, конечно. Судя по остановившемуся взгляду, и по руке, перебирающей край скатерти, с «думаньем» у нас напряженка. Тем не менее, даю ей время. Мне сейчас важно понять, как у нее происходит этот процесс – «решение задач». Что именно она делает, когда ей говорят – «реши задачу».
- Четыре плюс восемь? – тихо говорит она с вопросительной интонацией.
- Что «четыре плюс восемь»? – Нда, если к четырем гектарам прибавить восемь центнеров, вряд ли что-то получится…
Опускает голову, начинает что-то бормотать. Судя по всему, это невнятное бормотание – способ показать, что она «думает».
Надо сказать, что, начав заниматься с моей девочкой, я почти сразу обнаружила у нее целый «комплекс» неких действий, мимики и жестов, призванных изображать «процесс размышления». Она закатывала глаза, и иногда начинала ими вращать. Резко откидывала голову назад, и смотрела в потолок. Она двигала бровями, сильно и высоко приподнимая их, морща лоб. Она делала резкие жесты руками, сопровождая их тем же самым бормотанием. Она даже телом пыталась показать, что там, внутри нее, что-то якобы «происходит» - делала некое извивающееся движение, как будто «волну» пускала от ног к голове.
Этот «театр» производил впечатление и жалкое, и пугающее. При этом я понимала, что скорее всего, в ее «прошлой жизни» эти «извивы» встречали одобрение – «видно, что ребенок старается, ну что ж поделаешь, что не может!» Она явно хотела, чтобы было «видно», как она «старается».
Пауза затянулась. Я уже собралась задать какой-нибудь наводящий вопрос, как вдруг она сама нарушила молчание, сказав:
- Четыре минус.
- Что четыре минус?
Минут через десять, после долгих вращений глазами, начатых и недоговоренных слов, закидывания головы назад и дергания ногой, ей, наконец, удается выговорить нечто внятное. На этот раз она предлагает от восьми отнять четыре.
- А почему отнять?
Она снова замолкает, отворачивается, уходит в себя. Взгляд становится бессмысленным, пустым. Она сидит, опустив голову, перебирает край юбки.
- Давай-ка, положи руки на стол, а то они тебе мешают…
Резко кладет руки на стол, глаза в стену.
Потом она предложила «перемножить» четыре и восемь. Ну и как совсем последний вариант – разделить. Не получив одобрения ни на один из предложенных вариантов, она снова резко бросила руки на стол, и низко опустила голову. Губы скривились, из глаз потекли слезы.
Давно еще, помогая с уроками своим детям, я «поймала» один интересный момент. Если ребенок говорит что-то правильно, то на этом обычно не фиксируешься, просто киваешь, или подтверждаешь – мол, «угу, хорошо», и двигаешься дальше. Если же ответ неправильный, то начинаешь задавать вопросы – мол, почему да как получился именно этот ответ. И дети это очень быстро смекают, и улавливают разницу, и делают вывод, что если их спрашивают – «почему, да откуда такой ответ получился», то это значит, что – неправильно, и надо быстренько исправляться. Уловив эту закономерность, я стала в любом случае спрашивать – «откуда ответ взялся». Первое время это ставило их в тупик. Что значит – «откуда», если ответ правильный? И зачем вообще спрашивать, и копаться во всех этих хитросплетениях, если и так все хорошо? Они пытались тут же «исправиться», и предложить другой «вариант». И снова получали вопрос «почему?». Надо отдать должное моим неглупым крошкам, они быстро все поняли, и стали добросовестно объяснять, что и откуда у них получилось.
Кстати, во время этих объяснений они сами стали «отлавливать» свои логические ошибки, и если ответ был все-таки неправильный, то им становилось понятно, что и на каком этапе нужно исправлять. Если же ответ оказывался правильным, то они, объясняя ход решения, совершенно очевидно получали удовлетворение от того, что результат получен не случайно, а является закономерным итогом хорошо сделанной, понятной и осмысленной работы.
С моей «новенькой» дочкой я стала применять этот способ сразу. «Почему такой ответ?» Надо сказать, что поначалу она встречала эти вопросы «в штыки». Иногда она, подсмотрев ответ в конце учебника, просто писала «как бы решение». Либо просто, не морочась, списывала ответ, и предъявляла его. Просьба «объяснить, как этот ответ получился» вызывала у нее искреннее возмущение. «Это же правильный ответ! - негодовала она, - он правильный!» - и совала мне открытый учебник. «Я так сообразила», - говорила она, - категорически отказываясь проговаривать «процесс соображения».
Становилось все более очевидно, что она совсем не умеет работать головой. Именно работать – делать некие целенаправленные шаги по продвижению от заданного условия к результату. Зато она худо-бедно умеет «лавировать» между требованиями взрослых, одобрениями и неодобрениями, мучительно пытаясь во взгляде, в интонациях «прочитать», как же ей поскорее привести процесс к завершению. Причем «завершением», как тоже стало понятно довольно быстро, является не полученный результат, не решенная правильно задача, а некое «Ну, все, хватит!», полученное от уставшего взрослого.
И вот мы сидим с ней за столом, и перед нами лежит та самая задача, про четыре гектара и восемь центнеров. Я понимаю, что спрашивать ее сейчас - «почему она выбирает то или иное действие» совершенно бессмысленно. Для того, чтобы этот вопрос имел смысл, перед ним должен был быть хоть какой, хоть плохонький, но процесс умственной работы. Здесь же этот «процесс» отсутствует напрочь. «Почему?» - да потому что она так привыкла – действовать перебором простейших действий. Их же всего четыре, сложение-вычитание, умножение-деление, рано или поздно «попадешь». И тебе скажут – «правильно, молодец!»
Почему она взяла центнеры и гектары, и стала манипулировать числами, которые ну никак не могли быть ни сложены, ни вычтены одно из другого? Да потому, что вся эта задача представлялась ей как некий набор бессмысленных слов. Какая там логика! Понемножку я выяснила, что она не понимает именно значения самих слов. Например, она не понимает, что такое «гектар». И она никак не связывает слово «гектар» с загадочными буквами «га». Она понятия не имеет, что такое центнер.
Помню, попалась нам задача про картофельное поле. Посадили сколько-то тонн картофеля, а урожай получили – в семь раз больше. И вот, помнится, пришло мне в голову спросить, а что там, собственно, по ее мнению, посадили, и чего оказалось «в семь раз больше». Она долго смотрела в стену, в потолок и на свои коленки, прежде чем выдавила – «не знаю».
- А как картошку сажают, знаешь?
Молчит, перебирает пальцами, на глазах слезы выступили. Кстати, должна сказать, что вот это - «молчит…. пальцы… слезы….» происходило практически всегда. Сначала – это, потом уже слова. Ни один ответ не «выскакивал» из нее легко и свободно. Почти каждое слово застревало и мучительно «выскребало» ей горло, прежде чем выходило наружу. Пальцы, руки, ноги, лицо, все тело совершали бесконечное число повторяющихся движений, прежде чем ей удавалось «родить» самый несложный ответ. «Бедный ребенок, - думала я, - сколько же энергии, сколько сил у нее уходит на все эти движения! Не мудрено, что на работу головой никаких сил уже не остается!»
- Семенами? - сказала она с той же вопросительной интонацией, - Сажают семена.
Вот так вот. Какая тут математика! Какая тут может быть логика, о каких решениях может идти речь, если она элементарно не понимает, что там происходит, в этой задаче! Следующие полтора часа мы говорили о картошке, о картофельных полях, о клубнях и прочей сельскохозяйственной рутине. Вернее, говорила я, а она смотрела на меня, кивала, и время от времени говорила – «понимаю». Я вытащила пару завалявшихся картофелин из ящика с овощами, и ползала по полу, пытаясь изобразить, как эту картошку закапывают в землю, и как она потом прорастает, и вокруг посаженного клубня нарастают новые маленькие картошечки, и они растут, растут, и так получается урожай…
- А что такое «клудень?»
- Клубень.
- Ну да, клубень…
Ах ты, господи. Она же не сопоставляет между собой эти слова! Картошка и картофель для нее слова «разные», а тут еще и «клубень» какой-то затесался! Объясняю, повторяю, прошу ее повторить. Она запинается, повторяет, ошибается, снова повторяет. Решив, что объяснений «по сути» было достаточно, пытаюсь вернуться к задаче.
- Ну давай посмотрим, что там у нас с картофельным полем!
Она тут же сникает. Взгляд, в котором до этого читался кое-какой интерес, опять становится тусклым. Во мне все больше крепнет мысль, что она боится этих задач. И полностью убедила себя в том, что никогда не сможет их решать.
- Так чего там больше в семь раз получилось, в урожае?
Молчит. Господи, ну пусть она хоть что-то скажет. Ну, пусть не про «клубни», ну пусть хоть скажет - «картошки», ну хоть что-то! Молчит.
- Ты задачу-то помнишь?
- Нет.
- Ну давай читать снова.
Читаем снова. Я искренне надеюсь, что теперь ей немножко понятнее, о чем там, в задаче, идет речь.
- Так что посадили-то?
- Семена.
- Детка!!! Мы же только что об это говорили. Я же тебе показывала, как сажают картошку!!! Два часа показывала! Вот прям берут клубень, ну вот, картофелину вот такую, и прям ее туда…
Она молчит, шевелит губами, но на этот раз явно что-то пытается сообразить. Я жду. Через некоторое время, запинаясь, говорит:
- Так что, это прямо картошку закапывают в землю?
- Угу. Прям картошку. Прям одну закапывают, а потом семь штук в выкапывают. Ну, или восемь.
Она явно изумлена.
Кое-как мы справляемся с задачей. Ребенок уходит заниматься другими делами, а я размышляю над тем, правильно я поступаю, или нет, каждый раз пытаясь объяснить ей «сюжет» задач. Ведь мы же математикой должны заниматься! А у нас тут все, что угодно, кроме математики – чтение, природоведение, языкознание… Этот вопрос беспокоил меня довольно долго, и через некоторое время я решила проконсультироваться со специалистом. С тем, кто знает толк в решении задач в четвертом классе. Вернее, не столько в решении самих задач, сколько в том, как дети в норме воспринимают все эти «картофельные поля, центнеры и гектары», которых они в глаза не видели…
Я решила поговорить с учительницей, у которой учится моя Младшая. Человек она легкий, незамороченный, и у меня с ней всегда был хороший контакт и полное взаимопонимание. Сказать по правде, я побаивалась рассказывать все «как есть». Я хорошо понимала, что то, как моя девочка проявляется на данный момент, может вызвать серьезные сомнения в ее умственных способностях. А ведь ей в сентябре идти в эту школу учиться! И я очень надеялась, что к сентябрю она будет «выглядеть» несколько иначе. А вдруг я сейчас расскажу «про плохое», и потом это помешает ей выглядеть достойно? «Покидав» свои сомнения туда-сюда, я все же решила, что поговорить со знающим человеком мне непременно надо, а последствий можно не опасаться, поскольку наша учительница – человек действительно нормальный в самом хорошем смысле этого слова.
Вкратце я описала ей изменение нашей семейной ситуации. Сказала, что у нас «прибавление в семействе», получив ответ, что учительница, оказывается, уже все знает, поскольку Младшенькая щедро делится с ней тем, что происходит у нас дома. «Трудно вам?» - с сочувствием спросила меня учительница. Я покивала – «ой, трудноооо! Вот, кстати, о трудностях…» Я сказала, что занимаюсь дома с ребенком, и мне нужно именно методическое руководство. Изложила ей свои сомнения. Нужно ли во время «уроков математики» тратить время на то, что математикой не является? Нужно ли объяснять ребенку, что «происходит» в задаче, добиваясь понимания, прежде чем приступать к решению? Или разумнее пренебречь «сюжетом», сосредоточившись на сугубо математической стороне?
Услышав мой вопрос, учительница практически подпрыгнула на стуле. «Да если бы вы знали, - воскликнула она, - сколько времени я трачу на объяснения про эти картофельные поля!» Она рассказала мне, что большинство учеников, как правило, плохо понимает, о чем идет речь в учебнике по математике. А некоторые вообще не понимают, как ни объясняй. «Я бьюсь, бьюсь, иногда прям взмокну вся от усердия. И так пытаюсь, и эдак, а он все смотрит на меня, и в глазах – пустота…», - говорила она с сердцем.
«Что за завод такой, кто такой слесарь, кто такой токарь, что значит «выточить деталь» - мало кто может разобраться, - говорила учительница, - а оттого, что не понимают, и решить правильно не могут. Конечно, объяснять надо!» Она сказала, что «центнеры с гектарами» складывает как минимум половина класса. «Тут, в школе, есть коррекционный класс, - сказала учительница, и я вздрогнула. – Так вот, я вам могу сказать, что там все гораздо хуже. А то, что у вас, - она улыбнулась, - то, что у нас с вами – это не коррекционный класс, это такая средняя норма. Так что вы не переживайте».
То, что сказала учительница, меня и порадовало, и огорчило одновременно. Порадовало потому, что, значит, моя девочка, при всем ее отставании и пробелах, не будет выглядеть такой уж «тупицей» в любом случае, даже если дела у нас не сдвинутся в лучшую сторону. Огорчило то, что подобный низкий уровень, оказывается, считается нормальным явлением. «Ладно, - подумала я, - пока что это нам на руку, в царстве слепых и кривой – король. А дальше…Поживем – увидим».
Все, что мы могли делать – это заниматься дальше. Пару месяцев назад, когда меня мой муж спрашивал «а что у этого ребенка с головой», я ему честно сказала, что пока что не могу понять, но буду разбираться. На данный момент мне было трудно прийти к однозначному выводу. Конечно, глядя, как она «решает» эти самые задачи, можно было бы подумать, что ребенок действительно «с отставанием», и на этом успокоиться. Ну, в конце концов, бывает и так. Ведь говорили же мне в опеке по ее прежнему месту жительства, что она «не тянет»… И «папа» ее бывший настаивал на том, что она не может понимать математику. Вот не может, и все, убежденно говорил он. И учительница в ее бывшей школе говорила, что девочка «слабенькая». Может быть, все они были правы? А я просто тщеславная и самолюбивая мамашка, и не хочу признавать очевидных фактов? Тащу несчастного ребенка «за уши» в страну интеллекта, а ей туда дороги нет…
При всем том, что мой ребенок действительно «тупил» весьма серьезно, были некоторые факты, которые поддерживали во мне мысль, что все не так плохо, и что есть надежда на изменения. Она неплохо решала математические примеры. То есть с теми заданиями, где не нужно было разбираться, «что происходит», она справлялась вполне прилично. Хорошо делала то, что уже поняла. Даже в процессе решения задач у нее иногда проскальзывали вполне здравые рассуждения. Такие «проблески» случались, как будто вот мелькнет что-то, как искра вспыхнет, и снова погаснет. Но ведь вспыхивало же!
Еще я убедилась в том, что у нее хорошая память. Она плохо знала таблицу умножения, и никак не могла запомнить, сколько килограммов в центнере и сколько метров в километре. Но зато она достаточно часто рассказывала, «что сказал один третьеклассник прошлым летом». «Ты действительно это помнишь?» - переспрашивала я ее недоверчиво, предполагая, что, может быть, она просто придумывает все эти реплики, разговоры, глупые шутки. «Правда помню!» - говорила она. Так значит, память есть, мозг работает. Функция памяти, как таковая, в порядке. А то, что она запоминает не «математику», так ведь ей математика и неинтересна! Запоминает человек то, что интересно лично ему – ну так это же вполне нормально. Даже хорошо.
Еще я не раз убеждалась, что она наблюдательна и сообразительна. Довольно часто, когда мы ходили в магазин, и я искала на полках то, что мне нужно, именно она мне быстро подсказывала, где что стоит. А главное – она знала, каким-то образом ухватывала, что именно я ищу, хотя специально мы это не обсуждали.
У меня родился такой образ – как будто ее ум, в принципе неплохой, здоровый и работоспособный, как будто завален толстенной, тяжеленной плитой. Она не может сама ее сдвинуть, она привыкла, что ей «тяжело». Но иногда, как и бывает в природе, сквозь толщу этой плиты удается пробиться небольшим «росткам». Как-то надо было разрушать эту «плиту»…
Почти каждый день мы обсуждали наши «успехи» с мужем. Он не одобрял мой образ «тяжелой плиты». «Дело совсем в другом, - говорил он, - у нее просто нет привычки работать мозгом. У нее своего рода атрофия мозга». Он сравнивал это с физической активностью. «Вот если бы она пролежала все эти одиннадцать лет в постели, не двигаясь, то сейчас она не могла бы ходить, - говорил он мне, - у нее ум «лежал». А теперь мы ей говорим – «вставай, иди!» А ей трудно «двигаться», делать умственные усилия.
У него самого был интересный опыт, связанный именно с работой мозга. Не со «способностью соображать», а именно – с тяжелой умственной работой, на износ. В свое время, будучи уже на четвертом курсе института, он начал всерьез заниматься высшей математикой. У них в институте работала профессор математики, которая и «нашла» его, обнаружила у него способности, и вдохновила заниматься и поступать на мехмат. Он рассказывал, что поначалу ему было очень трудно. Однажды, после периода особенно трудной мозговой работы, он пришел к профессору и пожаловался на то, что, как ему кажется, он «не тянет».
«Может быть, я просто не способен к математике?» - спросил он ее. И тогда она объяснила ему, что мозг работает по своим законам, так же, как тело. И дело тут в привычке и в постоянной тренировке. «Если ты, например, регулярно копаешь землю, лопатой, то со временем копание будет даваться тебе все легче и легче. Мышцы приспосабливаются, тело привыкает. Ты знаешь, как «ухватистее» взять лопату. А главное – ты знаешь, когда тебе надо сделать перерыв, а когда напрячься. Ты учишься правильно и эффективно работать». С мозгом, сказала она, то же самое. И еще добавила, что физическим трудом люди занимаются тысячелетиями. А регулярным умственным трудом человечество «в массе» начало заниматься пару сотен лет назад. И поэтому про умственный труд люди знают гораздо меньше. Просто еще не привыкли…
- Заниматься с ней надо регулярно, вот и все, - говорил мне муж, а с мозгами у нее, наверное, все в порядке. Просто надо выработать у нее привычку регулярно напрягать мозг.
- Хорошо тебе говорить, - скулила я, - мозг мозгом, а вот что делать, если она не может никак запомнить, сколько сантиметров в метре…
- Вот пусть сидит и учит, сколько там сантиметров… Кстати, а сколько?
- Сколько, сколько… да сколько бы ни было. Проблема в том, что ей это ни капельки не интересно…
- Да, это проблема, - соглашался муж, и добавлял, - будем работать…

 Хирургические центры в Москве
Хирургические центры в Москве  Осенние хокку.
Осенние хокку.  Лаванда
Лаванда  Вон оно чё, Михалыч!
Вон оно чё, Михалыч! 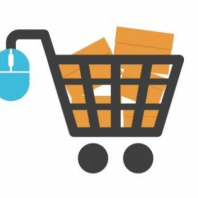 Как создать интернет-магазин самому бесплатно?
Как создать интернет-магазин самому бесплатно?  Белгородские хроники
Белгородские хроники  Самоцитирование
Самоцитирование  «Я УЙДУ, НО ОСТАВЛЮ СЛЕДЫ» (44)
«Я УЙДУ, НО ОСТАВЛЮ СЛЕДЫ» (44)  Как придать шарм старой запертой кошке
Как придать шарм старой запертой кошке 

