Кони Анатолий Фёдорович (1844—1927) Собрание сочинений в восьми томах. Том 5.
 papalagi — 21.05.2024
«Дмитрий Александрович Ровинский» 1896 г.
papalagi — 21.05.2024
«Дмитрий Александрович Ровинский» 1896 г.Наше время упрекают — и не без основания — в измельчании личности и в господстве чрезмерной специализации. Оба эти явления в тесной связи между собою — и оба печально отражаются на духовном складе общественной жизни. Личность все более и более умаляется, стушевывается, из сознательного и нравственно-ответственного «я» стремясь укрыться под безличное «мы». Слабеет воля, тускнеют идеалы, и все реже встречаются так называемые характеры. Современный образованный человек может, если хочет, обладать гораздо большим богатством по части знания, чем его отцы и деды; он окружен и несравненно более удобною внешнею обстановкою: масса технических открытий облегчает ему пользование материальной стороною жизни. Но, наряду с этою возможностью широкого знания и с этими удобствами, в нем самом нередко замечается недостаток нравственной силы и деятельного отношения к жизни во всем, что не касается узколичных,по большей части мелких, интересов. Слова графа Уварова: «les circonstances sont infiniment grandies et les hommes infiniment petits»*, — звучат подчас горькою правдою. Учение о душевных болезнях указывает на особое состояние, называемое «равновесием уменьшенных сил», при котором ни одна из способностей организма не уничтожена, но все они равномерно ослаблены и, так сказать, укорочены. Господство такого же равновесия уменьшенных сил в области труда, энергии, отзывчивости, деятельной любви замечается и во многих областях нашей государственной и общественной жизни. К этому присоединяется замыкание себя людьми в узкую специальность, которая сторонится от живого и многоструйного течения жизни и вырабатывает в своем обладателе равнодушное и даже презрительное отношение ко всему, что лежит вне ее области. Под влиянием всего этого часто утрачивается интерес к прошлому и вера в будущее. Вчерашний день ничего не говорит забывчивому, одностороннему и ленивому мышлению, а день грядущий представляется лишь как повторение мелких и личных житейских приспособлений.
Тем более ценны люди с определенным нравственным обликом, чей многосторонний и бескорыстный труд не может проходить бесследно для общества, служению интересам и развитию самосознания которого он был всецело отдан. Чем шире и разнороднее деятельность таких людей, тем интереснее их личность, чем богаче духовными дарами эта личность, тем глубже и плодотворнее результаты ее деятельности.
К таким людям принадлежал почивший летом 1895 года Дмитрий Александрович Ровинский. * Обстоятельства так возвышенны, а люди так мелки (франц.).
...Из речи, сказанной Ровинским в 1860 году («Век», 1860 г., № 16), молодым людям, вновь назначенным на должность следователя, переходную уже к новому порядку, видно, что такое были в его время, в Москве, некоторые производители следствий и как они действовали. Безотчетный произвол, легкомысленное лишение свободы, напрасное производство обысков, отсутствие всякой системы и раздувание дел были характерными признаками производства следствий чинами наружной полиции. В подтверждение этого Ровинский приводил примеры: а) отобранные у сознавшегося вора тулуп и поддевка возвращены хозяевам без оценки — чрез год; частный пристав, заметив свое упущение, требует хозяев из Рязанской губернии в Москву по этапу и обязывает их подпискою представить тулуп и поддевку; б) трое крестьян жалуются на кражу у них четырех бочонков сельдей, и после года производства следствия об этом пристав начинает следствие о том, откуда они взяли сельдей и имели ли право торговать ими; в) мещанин Овечкин и извозчик, с которым он ездил, сидят месяц под стражею по обвинению в праздной езде по улицам; г) производя у нескольких лиц обыск по жалобе солдатки о краже у нее белья, пристав обыскивает кстати и ее; найдя «кусок металлического свойства», заводит особое дело и вызывает эксперта для определения, какой это металл, и т. д., и т. д. «Главная причина всего этого,— говорил Ровинский молодым следователям,— кроется сколько в неспособности полицейских следователей, столько и в том, что многие из них, при ничтожном содержании и ежедневно возрастающих потребностях, привыкли по необходимости смотреть на взятие под стражу, освобождение арестанта, вызов, высылку, вообще на все следствие, как на средство к своему существованию. Вот почему полицейские следователи тянут свои следствия целые годы, оправдываясь медленностью высших инстанций и рассчитывая на полную безнаказанность со стороны своего начальства. Вот почему трактир, полпивная и всякое заведение, при самомалейшей возможности притянуть их, непременно перебывают у следователя со своим хозяином, прислугою, чуть не со всею своею посудою». Но не одна неумелость, а иногда желание «покормиться» искажали производство следствия. Это искажение шло гораздо дальше там, где нужно было выслужиться или отличиться. Ровинский приводил следователям «всплывшие из глубины канцелярской тайны» случаи — доведения мещанина вывернутием руки до «чистосердечного сознания» в убийстве, совершенном совсем другим лицом, и сечения обвиняемой в краже девочки 16 лет плетью по животу для получения такого же сознания... В объяснениях к «Народным картинкам» он указывает на обычный даже в его время в глухих местностях прием полицейского следствия, состоявший в недавании пить заподозренному, накормленному соленым сельдем и посаженному в жарко истопленную баню — и ссылается на производившееся еще во второй половине шестидесятых годов в общем собрании московских департаментов Сената дело частного пристава Стерлигова, вешавшего обвиняемого со связанными назад и затем навсегда отнявшимися руками на перекосяк, «исправлявший должность дыбы»...
...Пример трогательного человеколюбца, тюремного доктора Федора Петровича Гааза, отдавшегося всецело делу помощи заключенным, утешению их и заботе о них, вызывал в Ровинском глубоко сочувственное к себе отношение и в слове, и в деле. Впоследствии, в официальных записках по поводу тюремной реформы и судебного преобразования, он не раз с особым уважением указывал на деятельность Гааза, девизом которого были удивительные по своей простоте и глубине слова: «Спешите делать добро!». Еще будучи губернским стряпчим, Ровинский, постоянно посещая заседания тюремного комитета, был очевидцем замечательного и памятного ему столкновения Гааза с председателем комитета, знаменитым митрополитом Филаретом, из-за арестантов. Филарету наскучили постоянные и, быть может, не всегда строго проверенные, но вполне понятные при старом строе суда, ходатайства Гааза о предстательстве комитета за «нeвинно осужденных» арестантов. «Вы все говорите, Федор Петрович, — сказал Филарет, — о невинно осужденных... Таких нет. Если человек подвергнут каре — значит, есть за ним вина»... Вспыльчивый и сангвинический Гааз вскочил с своего места... «Да вы о Христе позабыли, владыка!» — вскричал он, указывая тем и на черствость подобного заявления в устах архипастыря и на евангельское событие — осуждение невинного... Все смутились и замерли на месте: таких вещей Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении, никогда еще и никто не дерзал говорить в глаза! Но глубина ума Филарета была равносильна сердечной глубине Гааза. Он поник головой и замолчал, а затем, после нескольких минут томительной тишины, встал и, сказав: «Нет, Федор Петрович! Когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл — Христос меня позабыл!..» — благословил всех и вышел.
...Особенное внимание обращал он на «частные дома» с их так называемыми «съезжими». Там почти постоянно можно было найти арестованных без всякого законного основания; там было место применения личной расправы с людьми, отпускаемыми затем без всякого суда, — там, наконец, производилась знаменитая, глубоко вошедшая в тогдашние нравы «секуция». «В доброе старое время, — вспоминает Ровинский в „Русских народных картинках",— „секуция" производилась в частных домах по утрам; части Городская и Тверская, в Москве, славились своими исполнителями; пороли всех без разбора: и крепостному лакею за то, что не накормил вовремя барынину собачку, всыплют сотню, и расфранченной барышниной камердинерше за то, что барин делает ей глазки — и той всыплют сотню: — барыня де особенно попросила частного; никому не было спуска, да и не спрашивали даже, в чем кто виноват, — прислан поучить, значит, и виноват — ну и дери кожу. Хорошее было время: стон и крики стояли в воздухе кругом часто целое утро; своего рода хижина дяди Тома, — да не одна, а целые десятки». Если Городская и Тверская части приобрели себе особенную славу по части телесных наказаний, то Басманный частный дом отличился в другом отношении. Там негодующий Ровинский нашел семь, немедленно им уничтоженных, подвальных темниц, куда никогда не проникал луч света. Они назывались «могилами», и в них расстраивали себе зрение и даже слепли (между прочими— почетный гражданин Сопов) люди, числившиеся «за приставом». В другой из московских частей непрошеная любознательность губернского прокурора открыла специальный «клоповник» для арестованных со всеми его необходимыми принадлежностями.
Немало тревожных забот доставляли Ровинскому и дела о крестьянах и дворовых. Иго крепостного рабства, которым, по выражению Хомякова, была клеймена Россия, давило в начале пятидесятых годов всей своею тяжестью и оказывало свое растлевающее влияние на все общественное здание. В Московской губернии постоянно возникали дела о злоупотреблениях помещичьей власти, и хотя Закревский сурово относился в этих случаях к виновным, но в то же время был, по замечанию Ровинского, ярым защитником крепостного права, не допускавшим и мысли о ненормальности создаваемых этим правом отношений. Кроме всесильного генерал-губернатора на беспощадной страже этого права стоял и уголовный закон, подвергавший, на основании ст. 1983 тома IX Свода законов, крестьян, непокорных не только своим господам, но даже и тем, кому последние передали, вполне или с ограничениями, свою власть, — наказанию, установленному за восстание против властей, т. е. каторжной работе на очень длинные сроки и плетям. Понятно, как легко, при таких условиях, могли быть возбуждаемы, по самым ничтожным поводам, в сущности сводившимся лишь к недоразумениям, дела о восстаниях крестьян и какому одностороннему разрешению они подвергались, особенно если иметь в виду, что по ст. 221 второй части XV тома крепостные люди подсудимых могли быть допрашиваемы при следствии лишь за недостатком других свидетелей. Ровинскому приходилось часто и горячо отстаивать и пред Закревским, и в уголовной палате спокойный и трезвый взгляд на дела о «восстаниях» крепостных и, лавируя в узком проливе между формальными доказательствами, отыскивать в деле трудно и неохотно добытые данные, правдиво рисующие житейскую его сторону. А это было необходимо, чтобы убедить графа Закревского в том, что там, где предполагалось «дерзкое колебание коренных основ общества», было подчас вопиющее злоупотребление власти над ближним, и что обиженная в своих правах и безмятежности «жертва» была иногда сама злобною и изобретательною мучительницею, — и тем обратить его гнев на действительно виновную сторону. Нужно было много выдержки, спокойствия, знания и безупречной чистоты в действиях, чтобы выходить победителем при разрешении подобных задач. Хотя это и удавалось Ровинскому, но оставило горький осадок в его душе, отразившийся впоследствии, между прочим, и на его представленных в Государственную канцелярию, в 1860 году рассуждениях о необходимости «различать бессвязные волнения от того, что еще так недавно возводилось на степень государственного преступления...».
...Впрочем, служебные дни самого графа Закревского уже близились к концу. Вокруг него кипела новая, необычная для него жизнь; с высоты престола, как святой благовест, неслись призывы к усовершенствованиям, к подъему человеческого достоинства, к правде и милости, а он продолжал глядеть на Москву, как смотрит рачительный, но суровый хозяин на свою вотчину. Еще в 1858 году он представлял шефу жандармов «список подозрительных лиц в Москве», в котором, кроме Аксаковых и Хомяковых, вина которых обозначалась словом «славянофил», значились, между прочим, М. Н. Катков, откупщик В. А. Кокорев («западник, демократ и возмутитель, желающий беспорядков»), К. Т. Солдатенков («раскольник и западник, желающий беспорядков и возмущений»), академик М. П. Погодин («литератор, стремящийся к возмущению»), знаменитый артист Щепкин («желает переворотов и на все готовый»), Юрий Самарин («славянофил, желающий беспорядков и на все готовый») и др. Не допуская и мысли о возможности отмены крепостного права, он уже после известного высочайшего рескрипта на имя Назимова преследовал в Москве всякие знаки сочувствия к предпринятому государем великому делу, — повелительно указал Кокореву на дверь, когда тот позволил себе «заявить себя на стороне петербургских глупостей» — и утверждал громогласно, что «в Петербурге одумаются, и все пойдет по-старому».
...В «Русских народных картинках» Ровинский, со свойственною ему образностью, выражает мысль о бесполезности всяких частичных реформ в судебных учреждениях, рассказывая о тщетной борьбе крутых царей — Ивана Васильевича и Петра Алексеевича с чиновничьим взяточничеством в судебных Приказах, с произволом и «кормлением» воевод. Его не удовлетворяли и реформы Екатерины II по этой части, заменившие воеводу коллегиею, так как ими не изменялась сущность судебных порядков и порочные привычки судей. «Либеральные декорации, — говорит он, — не всегда сходились с серою действительностью, и народ отблагодарил за новые учреждения (судебные коллегии) меткою пословицею: «Прежде одну свинью кормили, а теперь и с поросятками»... По этому же поводу он приводит остроумный отзыв князя А. С. Меншикова, назвавшего нерешительные, отрывочные и частичные меры, предпринятые, вопреки проекту Киселева, в 1838—39 гг. относительно государственных крестьян, «улучшенным бытом в уменьшенном виде». Поэтому патетически-комические выражения «Общей объяснительной записки», вроде указания на «естественную, драгоценную для всякого чувствительного человека, мысль о неотъемлемом праве каждого, хотя и вполне заслуживающего всей строгости карающих постановлений, ходатайствовать об облегчении своей участи», не подкупали Ровинского и не прикрывали в его глазах скудость предлагаемых ею мер. Враг условных форм, не соответствующих содержанию, поклонник простоты и искренности в деловом языке, он был глух к тому, что сам называл, в различных местах «Народных картинок», «трескучими фразами» и «уголовными прибаутками», относя к ним и знаменитые слова Екатерины II: «Лучше десять виновных освободить, нежели одного невинного наказать», сказанные в действительности впервые Петром Великим в 1716 году, в п. 9 гл. V Устава воинского.
|
|
</> |

 Проверка контрагентов — залог безопасности и стабильности бизнеса: как минимизировать риски при сотрудничестве
Проверка контрагентов — залог безопасности и стабильности бизнеса: как минимизировать риски при сотрудничестве 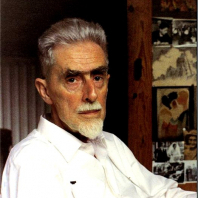 Что видим? Нечто странное
Что видим? Нечто странное  Утриш. Шестой день, 29 апреля. В Сукко по берегу
Утриш. Шестой день, 29 апреля. В Сукко по берегу 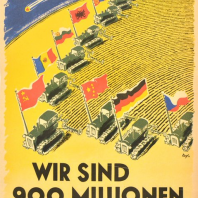 Бодрячком
Бодрячком  Белый конь
Белый конь  День 14. Минимализм: цветной вариант.
День 14. Минимализм: цветной вариант.  Певцы и пловцы
Певцы и пловцы  Миллионы людей кликают на хомяка в надежде разбогатеть и эта игра захватила мир!
Миллионы людей кликают на хомяка в надежде разбогатеть и эта игра захватила мир!  Кошелёк клана Галкиных: как брат пародиста стал миллиардером в сфере ВПК
Кошелёк клана Галкиных: как брат пародиста стал миллиардером в сфере ВПК 



