Колкер Юрий Иосифович. Литератор.Поэт. Кочегар физмат наук 05
 jlm_taurus — 23.08.2025
Третий мой израильский дантист, Виктор Мельман, был и вовсе
удивительный человек: мой читатель. Нет, не стихи, конечно, он
читал, а какую-то публицистическую прозу… хотя кто знает? Автограф
на книге стихов я ему точно давал. Вот кто и в самом деле казался
мне мудрецом с подстилающей философией (каковым вообще всегда
должен представать пациенту всякий настоящий целитель). В связи с
Мельманом я не спрашивал себя: что это за профессия. Отдавался ему
в руки с доверием. И вот вам чудо из чудес: был случай, когда
Мельман вовсе не взял с меня денег за пломбу. Просидел я у него в
кресле больше часу — и вышел, не обеднев ни на шекель. Кажется, я в
этот момент был без работы, и он знал об этом, но здесь для меня
даже не в деньгах состояло главное, здесь самый жест с его стороны
был драгоценен.
jlm_taurus — 23.08.2025
Третий мой израильский дантист, Виктор Мельман, был и вовсе
удивительный человек: мой читатель. Нет, не стихи, конечно, он
читал, а какую-то публицистическую прозу… хотя кто знает? Автограф
на книге стихов я ему точно давал. Вот кто и в самом деле казался
мне мудрецом с подстилающей философией (каковым вообще всегда
должен представать пациенту всякий настоящий целитель). В связи с
Мельманом я не спрашивал себя: что это за профессия. Отдавался ему
в руки с доверием. И вот вам чудо из чудес: был случай, когда
Мельман вовсе не взял с меня денег за пломбу. Просидел я у него в
кресле больше часу — и вышел, не обеднев ни на шекель. Кажется, я в
этот момент был без работы, и он знал об этом, но здесь для меня
даже не в деньгах состояло главное, здесь самый жест с его стороны
был драгоценен.В сущности, физическая и нравственная мука в зубоврачебном кресле с детства всегда выливались у меня в одно: в жажду сочувствия и участия со стороны дантиста; нестерпимо хотелось, просто мечталось, чтоб он во мне человека видел. Мечталось — и осуществилось, притом в Израиле. Сейчас я спрашиваю себя: те московские дантисты начала XX века, которые Маяковского лечили за автограф, не из евреев ли были?
Через год или два, в приемной перед кабинетом Мельмана (улица Шаммай, 12-гимель), я как-то столкнулся с Воронелем, приезжавшим из Тель-Авива по той же надобности. Он уходил и прощался; мне нужно было садиться в кресло, для разговора времени не оставалось; но кое о чем мы всё же успели перемолвиться. О чем? Об эстетике; не о сионизме же. Я поругал кого-то из его авторов за плохой русский язык. В ответ Воронель назвал меня пуристом (случилось это во второй раз в моей жизни, первый — на счету Глеба Семёнова; третий раз то же самое скажет Житинский в 2003 году). Коснулись и зубовных дел. На мои сетования, что вот, мол, не повезло мне в жизни, зубы выдались плохие, сионист не утешил меня в моей общечеловеческой скорби (как я на то рассчитывал), а произнес назидание:— Зубы, — сказал он, — нужно было в России делать.
То есть он думал, что уж в России-то у меня, как у всех, деньги были… да и не о зубах это было сказано, не о юдоли слез людских, а о протезах. Что до денег, то хоть и очень бедны мы были в Израиле, а рядом с бедностью нашей в Ленинграде новая бедность могла казаться зажиточностью.
***
...Без некоторых еврейских словечек не обойтись; они вошли в плоть и кровь… употребляют же, притом все кругом, слово хохма и еще десяток подобных, взятых прямо из иврита. Шмира — ничуть не хуже; означает: охрана; шомер — переводится как сторож… А еще ведь есть выражения, которые без оглядки на еврейскую культуру не истолкуешь. Что, например, значит по-русски свинью подложить?
Пятницы мелькали, словно пятки. Серьезная работа для меня еще не маячила; деньги, странное дело, были нужны (они почему-то всегда нужны), а тут мне говорят: есть место в шмире. Существуют в Израиле специальные частные компании, поставляющие сторожей другим компаниям и учреждениям. Работника (сторожа) обычно доставляют на место дежурства и привозят домой после смены; так и у меня потом случалось, но на свою первую шмиру я ездил сам, добирался на двух автобусах вечером, и так же возвращался утром; а билет стоил 70 шекелей. Сторожил я министерство жилья и строительства, мисрад-а-шикун-вэ-биньян, новенькое здание из теплого иерусалимского известняка с традиционной для местных новостроек рустической облицовкой.
Просторный холл, в котором я сидел с напарником, тоже русским, казался мне дворцовым залом. Во всём здании были полированные каменные полы под мрамор, такие же, как и всюду в Израиле, включая частные квартиры (исключая — только наш пещерный городок, где пол был бетонный); эти сияющие полы всё еще изумляли меня, особенно тут, в новом здании, где в них можно было глядеться, как в зеркало… С напарником мы потом устроили так, что ночью дежурил только один из нас. Обязанности были несложны: обходить помещение, проверять сигнализацию; труднее всего было отвечать на телефонные звонки, впрочем, нечастые; снимая трубку, я сжимался в комок — и зря: от шомера никто хорошего иврита не ждал. Первый раз я вышел на дежурство в воскресенье, 12 августа 1984 года.
Время не должно пропадать даром; на дежурствах я писал письма. Сейчас мне эти письма легко отличить: все они — от руки (дома я писал на машинке под копирку). Компьютеров в ту пору в офисах не было, зато было в изобилии представлено другое чудо техники: копировальные аппараты. От них — дух захватывало. В СССР, на всех его двадцати двух миллионах квадратных километров суши, каждая отсканированная страница регистрировалась государством — так боялись большевики хоть подобия бесцензурной публикации; за нелегальное пользование ксероксом — срок можно было получить; а тут — ешь-не-хочу!
По интенсивности — эти первые полгода в Израиле были самыми насыщенными в моей жизни. Можно сказать и так: самыми счастливыми. «Такой неслыханной свободы я с детских лет не обретал…» Израиль вернул мне всё, что отняла Россия, начиная с человеческого достоинства; всё, что можно было вернуть человеку, чья жизнь уже в значительной степени погублена. Я оказался в стране, текущей молоком и медом. За всю предшествовавшую жизнь не видел я столько доброты и отзывчивости, ума и тонкости; не получал в таком избытке человеческого тепла, как за эти шесть месяцев в Израиле. Интеллектуальный климат, культурное эхо — были упоительны. Я очутился в сказке, в раю.
Евреи-сионисты превратили пустыню в цветущий сад, в прямом и переносном смысле. Это была страна людей — то, во что уже невозможно было верить в России, где товарищ норовил загрызть товарища. Это была страна совести и смысла… потому что евреи — совесть мира. Виктор Гюго, которого я обожал в детстве, честный, последовательный антисемит («Ты убил человека! — Нет, еврея!»), — и тот проговорился: «Ты — словно моя совесть!» — вот что слышит еврей от убийцы, перед тем, как быть убитым. Это была лучшая страна на свете. Благодарность к ней настолько переполняла меня, что я с радостью, по первому слову, отдал бы тогда жизнь за нее… точнее, так я чувствовал, и с пылом самым неподдельным, а вместе с тем прекрасно понимал, что никто этого слова не произнесет… Я тоже страстно хотел стать совестью мира, да не сдюжил, хоть и прожил в Израиле еще пять лет… Что выросло, то выросло; не всё стриги, что растёт.
И вместе с тем — это была пустыня. Не повторю за Пушкиным: нам целый мир пустыня — и не потому только, что нет больше в этом мире Царского села. Куда страшнее другое: в нем нет больше местоимения мы. Нет для меня. Я жизнь положил на то, чтобы обрести это местоимение, но каждая новая попытка только отдаляла меня от счастливого братства единомышленников.
Год Орвелла кончился, но жизнь продолжалась, и преинтересная; ЕБЖ, переживу ее заново, а пока, забегая вперед, скажу самое главное: за все мои годы в Израиле, числом пять с половиной, в лучшей стране на свете нашелся один-единственный пакостник, постоянно отравлявший мне жизнь: я сам.
Источник
https://yuri-kolker.com/
"Я родился в четверг, 14 марта 1946 года, на Петроградской стороне. Она и есть родина. От Ждановки или Тучкова моста до площади Льва Толстого — два с небольшим километра, но только там, в этом заповеднике архитектуры модерна, я становлюсь язычником, молюсь камням и деревьям… уцелевшим камням и деревьям…
Отец — инженер, из мелкой одесской буржуазии, мать — домохозяйка, из питерского пролетариата. Познакомились мои родители в Берлине. Он был студентом, она — дочерью сотрудника торгпредства, старого большевика, бывшего солдата.
Большевик после революции дослужился до чина военного комиссара Главного артиллерийского полигона (Ржевского) под Ленинградом, но умер своей смертью — в 1935, сорока пяти лет, от «хронической бугорчатки лёгких» (туберкулёза).
Мой первый адрес — дом 102 по Большому проспекту; его не помню, там я был младенцем. Мой главный адрес — Офицерский переулок (тогда — переулок Декабристов), дом 4, квартира 5, третий этаж, два окна в эркере… коммунальный телефон: В2-11-79. В квартире было пять семей. Наша комната была 40-метровая, жили мы там впятером.
В шесть лет, еще не умея писать, начал я сочинять стихи. Отсюда — все беды и все радости.
В детстве я лазал по крышам, плавал на льдинах и понтонах на Петровском острове, тонул в ледовитой Ждановке. Упивался стихами: сперва Пушкиным, потом его антиподом Виктором Гюго (Лермонтову — не поверил), потом Блоком. В пятнадцать лет был перворазрядником по волейболу и чемпионом города среди юношей в составе Спартака. Волейболу было отдано много душевного пыла, но толку не вышло, спортсмен я был мечтательный и ленивый, мускулов не наращивал, утренней зарядки никогда в жизни не делал.
Учился я плохо, но в основном на пятерки. И в школе, и в институте. Плохо, потому что гиперактивность мешала. На пятерки — из-за нее же: не хотел быть хуже других.
Жили мы небогато, с годами всё беднее. В семье стихов не поощряли. Без благословения родителей я ходил в поэтический кружок при Дворце пионеров. Против их воли (не верили, что потяну) окончил с отличием физико-механический факультет ленинградского политехнического института. Зря, как выяснилось.
В уравнениях есть своя эстетика. Я отдал ей дань. Упивался почти как стихами. С излишней страстью. В 1978 году, уже давно зная, что я не ученый, защитил полузабытую диссертацию конца студенческой поры и получил степень кандидата физико-математических наук.
Шесть лет после аспирантуры я состоял при жалком советском институтике с апокалиптическим именем СевНИИГиМ. Наукой там не пахло. Я в основном программировал.
Кандидатский диплом не сделал меня счастливым. Самостоятельная жизнь началась трудно: в коммуналке, в непроглядной бедности. Жена и дочь тяжело болели. Отдельной квартиры не было и на горизонте. Стихи мои в советских журналах печатать перестали. Макет книги стихов, уже принятой к печати, восемь лет пролежал в издательстве без движения и был мне возвращён. Оставалось эмигрировать. Я не хотел, упирался. Переворот принесла афганская война. Цинизм Кремля ошеломил меня, ухмылки интеллигентных обывателей довершили дело. Я понял, что не хочу даже числиться в их рядах; ушел в кочегарки и стал добиваться выездной визы. Борьба за выезд отняла годы.
Я кочегарил на Адмиралтейской набережной, где в каждой котельной сидел поэт, затем — на реке Оккервиль, в Уткиной даче. Участвовал в самиздате, но богемного духа подпольной литературы не полюбил, а тогдашних непризнанных гениев нашел дутыми. В содружестве с тремя другими безумцами составил антологию ленинградской неподцензурной поэзии Острова, разошедшуюся в машинописи. Wiener Slawistischer Almanac, Bd. 17, 1986 Подготовил комментированный двухтомник Ходасевича, вышедший в Париже в 1983-м. Мою статью Айдесская прохлада, вошедшую в двухтомник, читают уже вторую четверть века. В 1986 году неведомый мне московский литературовед, профессор Ю. И. Левин, поставил ее в один ряд со статьями Андрея Белого и Набокова. В 1980 году, перед московской олимпиадой, меня вызвали в КГБ и пригрозили статьей 190 (1) за стихи, ходившие в машинописи.
В науку я и определился: в лабораторию биофизики при иерусалимском университете. Состоял там с февраля 1985 года по сентябрь 1989 года. Опубликовал одну-единственную статью, правда, в международном журнале, но — одну, нормой же было — publish or perish — минимум три статьи в год, иначе прощай. А мои конкуренты не писали и не читали стихов. Один профессор из англоязычной страны без тени смущения признался мне, что никогда не читал Шекспира. Советская культурная пирамида рухнула, как карточный домик. Я понял: современная жизнь в свободном обществе уже самим своим многообразием и богатством навязывает профессионалу узкую специализацию. Биолог или физик могут обойтись без Шекспира, самые увлечённые, самые одарённые — просто должны им пожертвовать. Универсализм ушёл
навсегда.
Университетская среда мои ожидания обманула. При составлении грантов приходилось совершенно также подчёркивать практическую сторону дела, как при составлении планов в советских институтах. Теории никто не хотел. Дальнейшее показало, что и на Западе положение не лучше. Университет как республика мысли больше не существовал. В лучших областях знания, там, где возможна формализация или хоть систематизация, установилась карьерная, почти чиновничья психология. В других, например, у русских славистов, отсутствие строгости позволяло выдавать за науку публицистику и прямой вздор.
Абсорбция наша складывалась плохо. Иврит, в обиходном своём варианте несложный, нам не давался. На учёбе не было возможности сосредоточиться. Помимо неотложных дел мешала застенчивость, понятная только литератору, выросшему в сплошной моноязычной среде: «чем выражать свои мысли плохо, лучше совсем воздержаться от разговора». Люди со скромным культурным запасом осваивали язык первыми. Общая доброжелательность, невероятная демократичность и открытость израильской жизни позволяли учиться прямо на улице, на рынке, в министерстве и в банке. Наша десятилетняя дочь свободно говорила уже через четыре месяца, в наших же с Таней головах происходил Вавилон; иврит теснил наш плохой английский; в наш русский, как мы ни противились этому, хлынули ивритские слова. В течение каждого дня приходилось говорить на трёх языках.
В 1988 году я прочёл в Русской мысли, что Би-Би-Си набирает сотрудников; подал на конкурс; первый экзамен провалил, но со второй попытки прошёл и был приглашён в Лондон с контрактом на 11 месяцев. Улетел я в Лондон 18 октября 1989 года; как оказалось, насовсем.
Никогда в жизни я не любил и не слушал радио: ни советского, ни антисоветского. Новости, политика — не занимали никакого места в моей жизни. В Израиле я был некоторое время внештатным корреспондентом Свободы, но репортажи делал правозащитного и литературного толка. С этим багажом я и оказался в Лондоне. О Би-Би-Си я знал мало. Имя корпорации вызывало в сознании представление о чем-то солидном. Там, надеялся я, должна присутствовать настоящая русская культура.
Сразу выяснилось, что это вздор. Горстка замечательных людей (в ту пору таковые там были), которыми служба могла бы гордиться, да не гордилась, — и та не отвечала моим ожиданиям. Лучшим из сотрудников мои требования к языку показались несообразностью. Говорят, писатель может работать кем угодно, кроме журналиста, но журналистика в обычном смысле слова — каррарский мрамор против шамота в сравнении с радиожурналистикой. «Вы с ума сошли! Сейчас же бросьте писать от руки. Некогда. Сразу — на машинке. Через сорок минут в эфир!»
На перевод сообщения объемом от одной до трех страниц и на запись этого сообщения на пленку моим голосом без всякой помощи оператора отпускалось до полутора часов, причём нужно было ещё самому и оговорки (флафы) вырезать бритвой с плёнки. Писать приходилось в комнате на шестерых. Прямо над ухом орали и спорили о самых невообразимых предметах.
Все пишущие машинки были старые (мне до 1993 года служила машинка без рычага для перевода каретки). Вся работа в отделе текущих событий была переводная, все переводы — политические. И всё это приходилось выносить человеку с маниакальным отношением к правильности русского языка. Я угодил в преисподнюю. С первых же дней я жалел о том, что уехал из Израиля; тосковал по Израилю.
Между тем дороги назад не было. Вернувшись, я оказался бы безработным. Таня, ещё не перебравшаяся в Лондон, работала в Иерусалиме на половинной ставке в Еврейской энциклопедии, получала около ста долларов в месяц, прокормить семью не могла. Хуже того: она постоянно болела; при хамсинах — просто умирала. Я говорил себе: моя каторга на Би-Би-Си — лаваново служение. Служу ради двух женщин.
Свободная журналистика оказалась для меня чёрной дырой. С начала 2004 года все мои усилия были направлены на поиск работы: любой работы. В июле мне стало ясно, что через месяц наш банковский overdraft превысит разрешённый предел. Тут счастье улыбнулось мне: меня взяли подсобником на фабрику пластиковых изделий за пять фунтов в час. В объявлении говорилось: must be dextrous (должен быть ловок), но меня взяли: это ли не чудо? Какая ловкость в 58 лет? Поначалу моя работа сводилась к сдергиванию (stripping) предохраняющей плёнки с акриловых пластин, и я с полным правом называл своё занятие декструальным стриптизом.
Незачем говорить, что я старался. Моё прилежание было замечено; меня быстро повысили: поставили к шлифовальному станку, у которого я и простоял, по девять часов в день, до июня 2007 года, причём моя зарплата после трёх надбавок дошла до семи фунтов в час и много превысила бибисишную. Я был на седьмом небе. Ритмическая, не требующая ума работа оставляла голову свободной; карандаш и бумага для стихов не нужны. Подобного стихотворного запоя не наблюдалось у меня с 1971 года. Гречанка с крылышками посещала меня ежедневно. Я едва успевал фиксировать переполнявшие меня замыслы. При этом я ещё и прозу сочинял. Каждый день я вставал в три утра, до семи писал прозу, а в семь шёл на фабрику (она находилась в двадцати минутах ходьбы). Возвращался к шести вечера полумёртвым от усталости.
Условия на фабрике были потогонные, конвейерные. Два раза мне отхватывало фрезой по куску пальца с ногтем, но всё заросло. До меня восточных европейцев
на фабрике не водилось. Моё трудолюбие надоумило администрацию искать работников в Чехии. Появились здоровенные парни, которым, при всём моём прилежании, я в ловкости уступал. Отношение ко мне, до этого превосходное, стало портиться; с некоторыми из чехов я не поладил; в итоге вынужден был уйти и впервые в жизни сесть на пособие по безработице.
|
|
</> |

 Большие займы в Краснодар на выгодных условиях: как найти лучшие предложения без переплат
Большие займы в Краснодар на выгодных условиях: как найти лучшие предложения без переплат 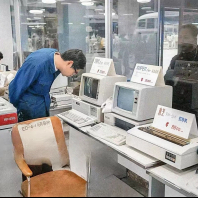 Продажа компьютеров, Шанхай
Продажа компьютеров, Шанхай  В паутине
В паутине  Как менялись цены на молокопродукты
Как менялись цены на молокопродукты  Бордолезские канеле (canelés bordelais)
Бордолезские канеле (canelés bordelais) 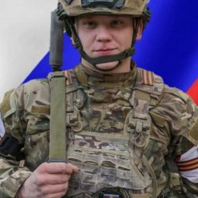 Гвардии сержант Владимир Морозов
Гвардии сержант Владимир Морозов  Серая серость была за окном
Серая серость была за окном  Море, и не только трое
Море, и не только трое



