Как берёза стала «русским деревом»
 sergeytsvetkov — 18.09.2025
sergeytsvetkov — 18.09.2025

История национальных символов нередко оказывается запутанной и неочевидной. Образ белоствольной березы, который символизирует Россию и идею «малой родины», за которую люди готовы отдать жизнь, — яркий пример. Его становление связано с важными политическими событиями в Советском Союзе 1920-1930-х годов, особенно с национальной политикой сталинского периода.
Историческая литература о советском прошлом обширна и разнообразна. Особенно много исследований появилось после распада СССР. Ученые часто расходятся во мнениях по ключевым вопросам. Например, одни считают Ленина и Сталина националистами, другие утверждают, что укрепление русской национальной идентичности и всплески шовинизма были побочными эффектами попыток сплотить общество вокруг дореволюционного прошлого.
Спорят даже о том, когда сформировалась русская нация. Одни историки видят признаки национальной идентичности у крестьян в поздней Российской империи и утверждают, что русская нация сложилась до революции. Другие скептично относятся к этой точке зрения и считают, что формирование нации произошло в сталинизме или даже в позднем СССР.
Мы лишь проследим за становлением одного из самых ярких символов русской нации — берёзы-берёзки-берёзоньки.
К концу 1920-х годов советское руководство осознало, что прежние мобилизационные идеи — мировая революция и интернационализм — не встречают отклика у населения, измученного революционными потрясениями. Кульминацией этого кризиса лояльности стала так называемая «военная тревога» 1927 года. Исследователи считают, что она сыграла роль и в ускорении индустриализации, и в ужесточении политики в деревне, и в изменении идеологической работы.
Кризис возник из-за серии внешнеполитических конфликтов. В феврале 1927 года Великобритания направила СССР ноту с протестом против поддержки советским правительством коммунистов в Китае. В мае британская полиция обыскала советское торговое представительство в Лондоне. В конце месяца Великобритания разорвала дипломатические отношения с СССР. Летом были убиты советские дипломаты в Польше и Латвии.
Советская пропаганда использовала эти события для нагнетания страха о неизбежном нападении «империалистических держав».
Попытка использовать пропаганду, чтобы напугать людей угрозой войны, дала обратный эффект. Вместо того чтобы объединиться вокруг власти и встать в очереди, чтобы записаться добровольцами в армию, люди начали злорадствовать над грядущим падением советской власти. Они толпились у магазинов и, следуя старой привычке, скупали соль, сахар, муку, крупы, спички и керосин.
Страх и тревога среди населения, пережившего ужасы недавних войн и революций, ясно показали полную несостоятельность интернационалистической доктрины как средства мобилизации. Историк Дэвид Бранденбергер заключает: «от катастрофы, приведшей к краху старого режима десятью годами ранее, СССР спасло исключительно то, что слухи о войне в 1927 году оказались безосновательными».
Кризис заставил искать новые объединяющие идеи. Одной из главных задач партийно-государственного руководства стало воспитание лояльных граждан, способных защищать страну на других основаниях, чем интернационализм. В поисках более сильной и вдохновляющей идеи Иосиф Сталин и его приближённые остановились на руссоцентристской форме этатизма. Это был самый действенный способ поддержать государственное строительство и добиться массовой лояльности режиму.
По мнению Бранденбергера, следствием именно этого поворота и стало формирование современного русского национального самосознания: «возникновение современной русской идентичности на массовом уровне можно считать в значительной мере продуктом исторической случайности — неожиданным следствием особых исторических обстоятельств сталинской эпохи».
Впрочем, ученые спорят о причинах этого выбора. В отличие от Бранденбергера, Юрий Слезкин, например, считает, что сработала вера ленинского и сталинского руководства в то, что убедительность социалистической пропаганды будет тем выше, чем тщательнее будет соблюдаться национальная (не только русская) оболочка. Татьяна Шишкова видит в идеологическом возвышении русского народа в конце 1930-х годов перенос на него передовой роли, которую ранее играл пролетариат западных стран.
Однако «конструирование объединяющего славного прошлого растянулось на годы и дало первые результаты лишь во второй половине 1930-х годов. Первый школьный учебник по отечественной истории с древнейших времен появился в 1937 году, по истории партии (включавшей обзор истории поздней Российской империи) — в 1938-м. Не только усвоение городской культуры в 1930-е годы характеризовалось „переходностью, текучестью“, но и „русская идея“».

А.Куинджи. Берёзовая роща
В первые полтора десятилетия после Октябрьской революции береза не была строго положительным символом в официальной партийной риторике, которую задавала «Правда». За 1917–1935 годы в газете появилось лишь три десятка упоминаний «березки», то есть в среднем три раза за два года. Несмотря на редкость таких упоминаний в центральной газете ВКП(б), спектр ассоциаций, связанных с образом березы, был довольно широк.
Березка могла символизировать бедность, запустение и суровую природу («тощие березки»), весну («кудрявые березки»), анахронизм эмигрантской политики (известный дореволюционный консерватор Марков Второй, любивший березки, цветы и раннее утро), женскую хрупкость и изящество («тоненькая как березка» балерина), а также успешное озеленение городов.
В целом, однако, среди упоминаний в «Правде» в 1920-е годы березка вызывала преимущественно негативные ассоциации. Эта тема была выразительно иллюстрирована историей о генерале Сакене, которую писатель Николай Никитин рассказал в августе 1934 года на Первом всесоюзном съезде писателей. Он использовал эту историю как метафору для критики современной ему литературы, обвиняя некоторых коллег в беспочвенности и фальши.
История прозвучала так:
«В середине прошлого века кавалерийский генерал Сакен, объезжая Новороссийские степи, заботился о древесных насаждениях. Однажды, сделав смотр, он любовался свеженькой березовой аллейкой. Сакен, поглаживая любовно березки, спросил вахмистра: „Ну, как, братец, ты думаешь, — примется ли она?“ — Так точно, ваше превосходительство, беспременно примется, — отвечал бравый вахмистр, — так что завтра мы их все повытаскаем в цехаус на метлы. Сакен вырвал березку. Она оказалась без корней, с заостренным стволом. Последовали выговоры, наказания. Но в других местах повторилось то же самое. Своеобразные озеленители были упорны. Зато в третьем месте, когда Сакен пробовал выдернуть березку, она крепко сидела в земле, как он ни старался ее выдернуть. А секрет был прост. Хитрецы пригвоздили к стволу березки деревянный крест (точно таким же образом, как когда-то делали у рождественских елок) и с крестом зарыли березку в землю».
После этого Никитин провел язвительную параллель:
«Дорогие товарищи, не напоминают ли вам эти березки некоторые из наших пьес, не втыкаем ли мы березку без корней? И когда нас ловят критики, общественное мнение, не с прежней ли, достойной лучшей участи рачительностью пытаемся мы всех обмануть, приколачивая к нашей березке крест?»
В речи Никитина береза приобретает несколько значений. Она символизирует не только ностальгию по березкам старой царской элиты, но и показное усердие ее сторонников. Кроме того, дерево олицетворяет искусственность и необоснованность произведений некоторых советских драматургов, а также их изворотливость перед лицом критики и общественного мнения. Этот текст отражает восприятие березки в советской печати 1920-х — первой половины 1930-х годов, где она чаще вызывала негативные ассоциации.
Эту критическую линию, хотя и в другой тональности, поддерживали видные деятели культуры. Владимир Маяковский в стихотворении на смерть Есенина не преминул пройтись по образу березки как символу анахронизма и прибежища всякой «дряни»:
«Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой —
„Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха“».
Впрочем, Маяковский не был так однозначен в отношении примет русского национального пейзажа. Как подметил Михаил Эпштейн, «даже В. Маяковский, в целом отрицательно относившийся ко всякой национальной символике (отзыв о Л. Собинове, который поет романс на есенинские стихи „под березкой дохлой“), в одном из заграничных стихотворений отдал дань этой традиции: Конешно, — березки, / снегами припарадясь, / в снежном лоске / большущая радость («Они и мы»)».
Были и другие, лирические голоса. В январе 1919 года не симпатизировавший большевикам Михаил Пришвин сравнил Россию в Гражданской войне с березой посреди страшных буранов: «Буран перестал, инеем преображенная береза стояла, как чистая девушка, у ног которой Буран сложил свои силы в белом сиянии...». В следующем году поэт и переводчик Юрий Верховский написал поэму «Белая березка», в которой воспевал ту, что
«Сияет чистой белизной,
Трепещет листвою сквозной,
Блестящей в дождь, прохладной в зной,
В лазури — девой, и под тучей —
Царевной над песчаной кручей,
Сестрою нежной — надо мной».
В 1923 году нарком просвещения Анатолий Луначарский в работе «Марксизм и литература» использовал фразу «беленькая и зеленокудрая березка, похожая на русалочку, которую выдают замуж», чтобы проиллюстрировать механизм складывания слов в поэтический образ. А Марина Цветаева в 1929–1936 годах отвела березе важное место в крамольной с советской точки зрения «Поэме о царской семье». В этом произведении последняя императрица царапает на бересте молитву за Россию:
«Горит, горит берёста...
Летит, летит молитва...
Осталась та берёста
В веках — верней гранита».
На этом фоне неудивительно, что в официальном советском дискурсе места позитивному образу березы не находилось.

Во второй половине 1930-х годов, когда пропаганда гордости за славное дореволюционное прошлое России набирала обороты, березка по-прежнему оставалась в тени образов героического былого. Правда, количество ее упоминаний значительно возросло — их в главной газете советских коммунистов за 1936 — июнь 1941 года столько же, сколько за предыдущие восемнадцать лет, то есть в среднем около семи в год. Кроме того, палитра смыслов, связанных с образом березки, становится богаче.
С нею по-прежнему могли связывать застой и отсталость в литературе и искусстве. Так, в статье о развитии литературы в советской Белоруссии упоминается, что «исчезают символистские писания о „Мати-Беларуси“, о „дедах-дударях“, перестает петь о „доле народа“ традиционная березка». В статье, посвященной 40-летию Московского художественного театра, упоминаются былые грехи, преодоленные ныне благодаря переориентации на метод социалистического реализма: «Нельзя умолчать о том, что у Художественного театра на пути его развития были идейные и творческие срывы. Театр в дореволюционные годы отдал дань и натурализму («настоящим березкам на сцене»), и условному символизму. Но МХАТ стремился преодолеть свои ошибки, глубоко сознавая, что только реализм, только художественная правда должны быть в основе его творчества, что вне правды жизни, вне реализма — нет искусства».
Кроме того, любовь к березкам ассоциировалась с мещанским ханжеством. В фельетоне о советском бюрократе и деляге из строительного треста Дмитрии Никитовиче Глотове есть такой вложенный в его уста пассаж: «Ты что, засмотрелся на картину? Это — так себе. Молодой Айвазовский — вечернее море. Вот у меня дома есть... Поверишь? Подлинный Левитан! Ах, какие березки! Я вырос в среднерусской полосе. Люблю березу! Между нами говоря, трест не обеднеет, если приобретет для наших квартир по одной-другой картине. Ах, какие березки! Знаешь что? Мне надо сейчас домой минут на десять. Заедем ко мне — посмотришь. А?..»
Не стоит забывать, что береза по-прежнему ассоциировалась с гонимыми религиозными традициями, особенно с празднованием Троицы. Крестьянские опасения по поводу соблюдения обряда завивания березки зафиксировал в июне 1937 года в дневнике Михаил Пришвин: «Завтра Троица, хозяйка полы вымыла. — Надо бы, — сказала, — березками убрать, да боимся. — Чего же боитесь, раз уж елку разрешили, то само собой и березку... — Нет, про березку ничего не слыхать, и вам не советую, а то все заговорят: писатель, мол, пример показал, на вас весь поклеп ляжет. Через некоторое время цыгане проехали, лошади, повозка у них убраны березами. — Вот видите, — сказал я, — цыгане же не боятся. — С цыгана и спроса нет, — сказала хозяйка, — цыгану можно. У них вон и лошади свои, и ехать можно во все четыре стороны. А ты вот попробуй-ка, поезжай».
Вместе с тем березка в «Правде» в большей степени стала символизировать положительные ценности — праздничную атмосферу, радость и гостеприимство, народность и высокую гражданственность деятелей литературы и искусства. Во время выставки почти пятисот картин и рисунков Исаака Левитана из шестидесяти музеев и многочисленных частных коллекций в четырех залах Третьяковской галереи в 1938 году Игорь Грабарь превозносил творчество «певца русской природы», одновременно ругая его предшественников-пейзажистов, искавших необычное в природе. Досталось при этом не только живописцам — любителям итальянского пейзажа, но и Архипу Куинджи, хотя тот изображал не заморские края, а родные березки и Днепр. А автора заметки о Краснознаменном ансамбле песни и пляски под руководством А. В. Александрова не оставило равнодушным исполнение народной песни «Во поле березка стояла».
Береза, кроме того, в редких публикациях начала ассоциироваться с малой родиной. Так, в очерке о молодой сельской учительнице превозносится ее возвращение после получения педагогического образования в родные места и воспевается искренняя любовь к родному пейзажу среднерусской полосы, который изменился до неузнаваемости: «Он уже не левитановский — пейзаж средне-русской деревни, обязательными деталями которых стали телеграфные столбы вдоль просторных дорог, радиоантенны над черепичными и тесовыми крышами, новые общественные постройки, тракторы на полевом массиве. Все новое, что появилось в деревне с коллективизацией, стало органической частью ее, освоено, обжито, любимо деревенскими жителями. Это новое стало не только материальной базой современной деревни, но и ее эстетической ценностью. В песнях, которые поет молодежь, машина стоит в одном поэтическом ряду с прославленной Левитаном березкой».
Мы видим, что, несмотря на значительные изменения в русском пейзаже, описание которого дано от лица молодой учительницы, в официальном издании ЦК ВКП(б) нашлось место для левитановской березовой рощи. Это говорит о начале включения традиционного образа березы в новый советский патриотический нарратив. С этих пор береза уверенно становится символом русской национальной идентичности и «малой родины».
По кн.: Игорь Нарский, Наталья Нарская. Русская березка: очерки культурной истории одного национального символа. М.: Новое литературное обозрение, 2025.
***
Приобретайте мои книги в электронной и бумажной версии!
Мои книги в электронном виде (в 4-5 раз дешевле бумажных версий).
Вы можете заказать у меня книгу с дарственной надписью — себе или в подарок.
Заказы принимаю на мой мейл [email protected]
«Последняя война Российской империи» (описание)

«Суворов — от победы к победе».


ВКонтакте https://vk.com/id301377172
Мой телеграм-канал Истории от историка.

 Как выбрать лучшего интернет-провайдера для дома по качеству соединения в России
Как выбрать лучшего интернет-провайдера для дома по качеству соединения в России  Apple MacBook Pro 14 2025: стоит ли покупать Макбук на процессоре M5
Apple MacBook Pro 14 2025: стоит ли покупать Макбук на процессоре M5  Дионея, растение-ловушка
Дионея, растение-ловушка  ЖЕНЩИНА — ЭТО ГАРМОНИЯ, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И ЧУВСТВЕННОСТЬ!
ЖЕНЩИНА — ЭТО ГАРМОНИЯ, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И ЧУВСТВЕННОСТЬ!  Харьков во мгле
Харьков во мгле  Без названия
Без названия
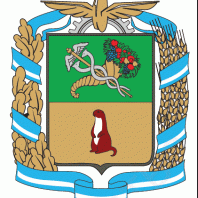 Купянск
Купянск  Роберт Патрик: человек стали и дороги
Роберт Патрик: человек стали и дороги  0413 (17/10) А по веткам рыжими белками Прыгает листопад
0413 (17/10) А по веткам рыжими белками Прыгает листопад 



