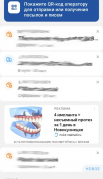Итог предсказуем, но придётся помучиться — 1
 miguel_kud — 28.06.2025
Надеюсь, большинству читателей понятно, что достигнутое
«прекращение огня» на Ближнем Востоке не меняет общей
стратегической диспозиции, описанной нами в предыдущем тексте. Сохраняются те же мотивы для
возобновления агрессии, те же факторы неустойчивости Ирана и немощи
его сопротивления, те же ограничения на возможную помощь Ирану от
более крупных стран-покровителей. Поэтому можно выдвинуть прогноз о
довольно скором возобновлении разрушительного давления на Иран,
справиться с которым будет очень трудно. Попробуем ещё раз описать
изменения стратегических балансов, которые последуют за падением
Ирана, слабости его нынешнего положения и перспективы ухода со
смертельной траектории.
miguel_kud — 28.06.2025
Надеюсь, большинству читателей понятно, что достигнутое
«прекращение огня» на Ближнем Востоке не меняет общей
стратегической диспозиции, описанной нами в предыдущем тексте. Сохраняются те же мотивы для
возобновления агрессии, те же факторы неустойчивости Ирана и немощи
его сопротивления, те же ограничения на возможную помощь Ирану от
более крупных стран-покровителей. Поэтому можно выдвинуть прогноз о
довольно скором возобновлении разрушительного давления на Иран,
справиться с которым будет очень трудно. Попробуем ещё раз описать
изменения стратегических балансов, которые последуют за падением
Ирана, слабости его нынешнего положения и перспективы ухода со
смертельной траектории.1. Юго-западный «ключик»
Для того чтобы понять стратегические императивы момента, необходимо сказать, что в реализованной системе внешнего управления евразийскими странами действует одновременно много факторов, «подстраховывающих» друг друга. Мы неоднократно отмечали ведущую роль агентурного и когнитивного механизмов внешнего управления, но к ним добавляются и другие элементы. Например, экономическая, технологическая, ресурсная и военная слабость усиливают агентурный и когнитивный «контуры», если создают угрозу неприемлемых экономических потерь или быстрого военного краха при попытке выхода страны на независимую траекторию. Это создаёт дополнительную причину, по которой не происходит переворотов против очевидно предательской политики: не только службы безопасности режима блокируют альтернативы, но и потенциальные «мятежники», оценивая уязвимость собственных стран в случае неограниченной конфронтации, не торопятся брать на себя ответственность за неминуемый разгром, поэтому не пытаются свергнуть агентурное руководство.
С учётом взаимодействия разных факторов внешнего управления, легче понять, почему кукловоды идут на добивание Ирана, несмотря на, казалось бы, имеющуюся возможность «полюбовного» решения тех же стратегических задач с опорой на и так зависимый статус Ирана. Например, мы говорим о желании Запада пробраться в Среднюю Азию, чтобы получить дополнительные инструменты для ударов по РФ и Китаю, хотя у Запада и так есть довольно глубокое проникновение в Среднюю Азию — сеть агентов влияния, ориентированные на Запад элиты, технологическая зависимость, прямое участие западных компаний в функционировании важных отраслей экономики. Неужели этого не хватает? Нет, не хватает ввиду отсутствия достаточно широкого логистического коридора в Среднюю Азию. Можно представить ситуацию, когда РФ и Китай (допустим, с менее зависимыми от Запада правителями) сочтут угрозы из региона неприемлемыми, и тогда у них остаётся «последний довод» в виде прямой военной операции со взятием под контроль Средней Азии, которая не сможет эффективно обороняться из-за отсутствия надёжного снабжения от Запада, даже с прозападными режимами и после фанатизации населения. В этом принципиальное отличие Средней Азии от той же, например, Польши. В настоящий момент надёжный широкий коридор снабжения Средней Азии извне, независимый от РФ и Китая, можно наладить только со стороны Ирана. Пока в Иране номинально непрозападная власть, она не даст провести такой коридор, соответственно, Средняя Азия ограничена в своём антироссийском дрейфе. Даже переход власти к более прозападному режиму не позволит Тегерану достаточно быстро развернуться в антироссийском ключе. Как только Иран падёт как таковой, это ограничение снимается. Казалось бы чисто количественное наращивание и так существующих возможностей Запада добраться до Средней Азии повлечёт качественный скачок в плане того, в какое антироссийское и антикитайское орудие Запад может превратить регион.
Вообще, можно указать сразу несколько возможных уровней контроля внутренних регионов Евразии в зависимости от конфигурации пограничных регионов «Хартлэнда».
Представим, например, что в войне 2008 года РФ установила в Тбилиси полностью марионеточный режим, в 2014 году вышла на западные границы Советского Союза, не упустила Армению и создала формальный союз с Ираном и Китаем, который «подгрёб» в него и Пакистан. В этом сценарии все страны, оказавшиеся внутри этого блока (Азербайджан и республики Средней Азии) попали бы в полную зависимость от континентального блока даже без угрозы военного воздействия, просто в силу невозможности иного выхода во внешний мир. Они бы либо прямо вступили в блок, либо стали для него надёжным тылом без возможности пакостить исподтишка.
Вторая возможная конфигурация — та, что напрашивалась до нападения Израиля на Иран. Существовала пока не оформленная, а потенциальная сетка-треугольник: РФ-Иран-Китай, и всё, что внутрь него попадало (Средняя Азия), было логистически малодоступно для Запада без разрешения одного из трёх участников. В отличие от сценария, при котором Грузия-Армения и Пакистан включались в указанный континентальный блок, в этом сценарии оставались некоторые неконтролируемые связи Средней Азии с Западом минуя территории под контролем РФ, Ирана и Китая. Это значит, что зависимость Азербайджана и Средней Азии от треугольника РФ-Иран-Китай уже не была бы абсолютной. Поэтому Средняя Азия получала возможность дрейфовать от РФ в сторону Запада. Но она не могла «наглеть» или изменяться настолько, чтобы спровоцировать прямое российское вторжение, потому что полномасштабно прийти ей на помощь Запад не смог бы: например, паромные поставки из Баку через Каспийское море было бы легко заблокировать.
Однако падение Ирана будет означать, что одну из вершин описанного треугольника «выбивают». Помимо того, что для РФ становится логистически недоступным Индийский океан, а для Китая — сухопутный доступ к ресурсам Персидского залива, у внешних для треугольника игроков появляется «широкополосный» доступ в Среднюю Азию, и из кооперативно манипулируемого тремя вершинами общего тыла регион потенциально (не сразу, но почти неверняка через несколько лет) превращается во фронт для РФ и Китая, которые, к тому же, потеряют возможность снабжения из него и через него. Это, конечно, можно предотвратить прямым военным вторжением уже сейчас либо усилением других инструментов контроля, но «стоить» это вторжение будет намного дороже из-за доступа внешних игроков в Среднюю Азию через Иран, да и непонятно, захотят ли РФ и Китай брать под контроль Среднюю Азию в худших условиях, если не хотели брать в лучших. И если потеря республик Средней Азии и южного Казахстана вплоть до Джунгарских ворот пока означает для РФ только выбивание важных поставок и появление дополнительного фронта, то потеря Северного и Западного Казахстана — это моментальный военный конец РФ, более ярко выраженный, чем ракеты НАТО на Украине, поскольку от РФ «без пяти минут» отрезаются Сибирь и Юг, плюс становятся прифронтовыми ранее внутренние регионы, в которых спокойно базировалось стратегическое оружие.
Даже появление нового фронта (возможно, иррегулярной войны) на Кавказе, вероятное вслед за падением Ирана из-за разрушения устойчивости Грузии и Армении, а также из-за более открытого поворота Азербайджана к враждебности, которым пугают в связи с «пророчествами» Жириновского о последствиях нападения на Иран, в этой ситуации будет меньшей катастрофой, чем крах в Средней Азии, поскольку останется событием на стратегической периферии уменьшенной России, а не перережет её сразу в нескольких местах и даст возможность наносить удар в сердце стратегической обороны. Поэтому судьба Ирана приобретает ключевое значение, поворотное для дальнейшего наступления внешних сил на Евразию, хотя его и недооценивают. Например, долгое время считалось, что согласия одних только РФ и Китая достаточно для кооперативного контроля Средней Азии, но как только территория Ирана будет задействована для более широкого проникновения внешних сил, все увидят, что это не так.
Описанный здесь «стратегический приз» в виде территории Ирана для противников РФ и Китая настолько притягателен, открывает такое широкое поле для новых манипуляций (от принуждения совсем окружённой РФ к прозападному антикитайскому курсу до начала с ней войны на истребление по всем фронтам), причём Западу для этого необязательно будет лезть в Среднюю Азию самолично, что трудно представить себе сценарии, при которых всемирные кукловоды откажутся от добивания Ирана, за которым маячит такое раздолье. Это служит расширенным аргументом в пользу того, что перемирие в войне с Ираном — только временный тактический шаг.
Почву для скорого возобновления агрессии готовят уже сейчас по лекалам информационной эпохи — под видом жёсткой критики остановки войны со стороны «ястребов». В Израиле отставные военные и политики говорят, что нет смысла оставлять недобитым раненого льва, а в США сразу понеслись вбросы, будто критического ущерба иранской ядерной программе не нанесли, значит, нужно продолжение. На самом деле, сами теневые управляющие политическими процессами эту «критику» и подстроили, чтобы весь из себя «миротворец» Трамп или кто-то пришедший ему на смену «поддался давлению» и «жахнул». Точно по такой же схеме, например, был осуществлён поворот «СВО» в сторону ударов по гражданской инфраструктуре Украины и подготовке резни якобы под давлением осуждающей мягкотелость ВС РФ сетевой общественности.
Прогноз на общий итог новой агрессии для Ирана однозначно негативный. Страна не сможет выстоять из-за тотального превосходства агрессоров даже в условиях полускрытой помощи от РФ и Китая.
Сможет ли Иран выстоять, если Китай вмешается в открытую, осуществляя массированные поставки оружия и посылая свои соединения (хотя бы под видом добровольцев) на помощь Ирану? Тут потенциал ограничен, поскольку Китай не наладил маршруты снабжения Ирана достаточной пропускной способности, чтобы «перебить» неограниченно широкое морское снабжение американо-израильских сил. Однако возможны нюансы: в связи с поворотом к массовому использованию высокоточного оружия уже не нужны поставки к линии фронта такого же тоннажа, как во Второй мировой, и гипотетически Китай на первом этапе мог бы снабжать иранские силы через Пакистан, Афганистан и Туркмению даже по существующим каналам, а со временем построить более широкие. Подчеркнём, что тут речь идёт о сокращении тоннажа и физического объёма (в кубических метрах) необходимых поставок, а не стоимостных показателей и тем более не общих усилий, которые Китай должен выделить на оборону Ирана, в том числе отвлекая на это множество своих военнослужащих и значительную долю экономики. Но всё равно вряд ли три указанные страны Центральной Азии просто так согласятся быть транзитными и навлечь на себя гнев Вашингтона. К тому же, власти РФ при таком сценарии немедленно получат распоряжение подключиться к раскачиванию Средней Азии, чтобы торпедировать китайско-иранский транзит, подобно тому как они уже получали распоряжение способствовать победе «евромайдана» и выполнили его. Значит, для помощи Ирану Китаю придётся добиться политической лояльности и от РФ, и от Центральной Азии. Также надо понимать, что полноценное заступничество Китая за Иран повлечёт полное прекращение поставок из бассейна Аравийского моря, и тогда не только самому Китаю экономически не поздоровится на всё время войны, но и все соседние страны (арабские монархии, Турция, Индия, да и сам Пакистан) окажутся заинтересованы в скорейшем падении Ирана и начнут втихомолку помогать американцам.
Шанс отстоять Иран как управляемую Тегераном и Пекином территорию при условии полноценного вмешательства в войну Китая и, как минимум, активной невредительской помощи от РФ, может быть, остаётся, но от Ирана как страны с населением, да и окружающих регионов, вообще мало что останется: они будут максимально разрушены и опустошены.
2. Контуры континентального союза
Но если мы говорим о сильной мотивации для внешних к треугольнику Россия-Китай-Иран сил, чтобы выбить наиболее слабую вершину треугольника и пробраться в Среднюю Азию, то должны говорить о мотивации со стороны самого треугольника, чтобы этого не допустить. Что для этого можно было сделать раньше и что можно сделать сейчас?
В первую очередь, напрашивается формирование полноценного военно-политического союза с полным спектром обязательств взаимного заступничества при агрессии на любого из участников. Вот с этим у континентального треугольника большие проблемы, главная из которых — та, что он неспособен их даже осознать.
В «аналитическом» нарративе РФ принято считать преимуществом «мягкое» формирование альянсов без особых обязательств и требований соответствовать стандартам, чтобы не отпугивать потенциальных членов жёсткими условиями. Однако это и теоретически странная концепция, не соответствующая моделированию союзов, и на практике она показала несостоятельность. В «мягких» и необязательных объединениях все участники норовят друг друга кинуть и «слиться» самому при первой же возможности, как только дядя Сэм пообещает какие-то плюшки за сепаратное, оппортунистическое поведение. Что мы и увидели в ходе агрессии против Ирана, не получившего необходимой поддержки ни от РФ, ни от Китая и даже не попытавшегося нанести ответный удар по израильской и американской военной машине (демонстративные удары по израильским городам или ракеты в сторону американской базы, запущенные после предупреждения, — это вообще не сопротивление).
Итак, единственно стоящим оборонительным блоком в треугольнике Китай-РФ-Иран был бы полноценный военно-политический союз с жёстким юридическими обязательствами полномасштабного заступничества друг за друга, включая официальное вступление всех участников в войну при агрессии против одного из членов. Однако юридических обязательств недостаточно: история полна случаев перебегания стран в более перспективный, как ей показалось, лагерь прямо в ходе войны. Вероятность такого развития событий, с учётом высокой зависимости, как минимум Ирана и РФ от внешних управляющих, а также широких возможностей США влиять на внутриполитические расклады других стран, крайне велика. Чтобы этого не случилось, необходима определённая интеграция внутриполитических систем, которая приводит к выработке общего стратегического курса и исключает сепаратный поворот каждой из стран в противоположную сторону. Нетрудно убедиться, насколько жёстким является общий контроль теневых управляющих за поведением отдельных стран НАТО, подвёрстывающий всех под более или менее общий знаменатель. Идут не только постоянные консультации и согласования на всех уровнях государственного управления (и саммиты с главами государств, и различные комитеты с военными командованиями, и Парламентская ассамблея НАТО), но, де-факто налажена единая на весь Запад когнитивная сфера, определяющая «правильный» образ мысли и задающая антироссийский и антикитайский мэйнстрим без права на сомнения и в политикуме, и в «общественном мнении». Когда РФ оформила вокруг себя некое подобие оборонительного блока в виде ОДКБ (и весьма пренебрежительно трактовала свои обязательства в отношении Армении), она не озаботилась механизмами синхронизации политического курса. В результате произошло довольно быстрое «отчаливание» из ОДКБ Узбекистана, заморозка участия Армении, а оставшиеся среднеазиатские участники там держатся только в силу того, что пока у Запада не появилось полноценного доступа в Среднюю Азию и возможности предложить местным акторам альтернативу.
У оборонительных союзов есть и другая сторона: незаинтересованность в том, чтобы один из участников втянул остальных в свои «разборки» по причине собственной авантюрной политики по отношению к соседям, а не по причине сопротивления неспровоцированной агрессии. Это подразумевает определённый контроль членов оборонительного блока за тем, чтобы союзник не только «держал порох сухим» и в случае чего вступился «за други своя», но также не подставлял себя и остальных какими-то агрессивными, провоцирующими действиями. Однако обеспечить это в континентальном евразийском треугольнике было сложно. Иран принял на вооружение контрэффективную антиизраильскую линию, включавшую декларативное стремление демонтировать еврейскую государственность, финансирование «Хезбаллы» с её самоподставной тактикой «комариных укусов» Израиля, направляющую помощь йеменским хуситам с их бессистемными атаками морских путей и, как минимум, декларативную поддержку «ХАМАСа», целенаправленно напавшего 7 октября 2023 года на мирных евреев. Существенного, стратегического масштаба ущерба Израилю все эти действия не наносили, но как бы делали нападение Израиля на Иран не совсем «чистой» агрессией.
Политика же РФ была ещё хуже иранской. Страна в принципе никогда ничего не предпринимает, что наносило бы реальный ущерб странам Запада, но при этом внутри РФ разгуливает огромное количество агентов, кричащих, как они без конца «гибридно» атакуют Запад, предпринимают кибератаки и «оперативные комбинации», в результате которых Запад вот-вот падёт окончательно. Это аналогично политике Ирана, только вместо комариных укусов идёт медийная похвальба о нанесении по Западу ударов, которых вообще нет в реальности. С учётом бесконечной горячей войны, также начатой Кремлём на рубежах РФ, и непонятной милитаристской возни в других странах даже без надёжной логистической доступности от РФ (Сирия, Африка) выходит, что РФ — страна, которая сама нарывается на нападение, и брать на себя обязательства её защиты — довольно небезопасная мера.
Традиционное решение дилеммы безопасности союза, призванное предотвратить втягивание союзников авантюристичным участником в конфликты, не связанные с собственно защитой этого участника от не им начатой агрессии, — географическая конкретизация обязательств по взаимной защите (самоограничение НАТО Северным тропиком, нераспространение гарантий Армении по ОДКБ на территорию Арцаха). Но для данного случая этот путь непригоден, поскольку конфликты «серой зоны» между мирным сосуществованием и жёсткой конфронтацией, относимые к «гибридным» технологиям, выделяются не территориальной локацией, а самой идеей, что можно потихоньку наносить удары исподтишка и не считать это поводом для полномасштабного военного ответа. Значит, гипотетический союз Китая, РФ и Ирана должен был исключить исповедование теории всепобеждающей «гибридной войны» и тем более практику конфликтов «серой зоны» из политики Ирана и РФ. Для этого РФ с Ираном должны, как минимум, частично подпасть под контроль некоей вненациональной силы, урезонивающей их доморощенных «отморозков», иначе никто не захочет брать на себя обязательства перед Ираном и РФ по защите в случае нападения на них. Выходит, в надёжном оборонительном союзе также необходимо согласование внешнеполитических стратегий и возможных методов укрепления влияния за рубежом. Нет нужды говорить, что этот вариант контроля и урезонивания тоже в принципе исключался всеми проектами «мягких» объединений без обязательств, которые преподносились как последний писк стратегической мудрости.
Наконец, помимо отсутствия военно-политической основы для союза-крепости Китая, РФ и Ирана, точнее, нежелания всех трёх потенциальных участников вовремя сформировать такую основу, следует упомянуть их нежелание сформировать материальную основу в виде достаточного количества внутриконтинентальных магистралей между собой, недоступных для воздействия извне и позволяющих организовать снабжение любой страны в случае нападения. Наибольшее недоумение вызывает позиция Китая, который умудрился потратить невиданные суммы на приобретение лояльности Африки и скупку портов, которые ему всё равно окажутся бесполезны при блокаде морских путей, но не наладил надёжного снабжения с Ираном и затормозил строительство трубопроводов из РФ. Впрочем, эту проблему мы разбирали в «Царстве ложного “ши”», там же коснулись проблемы отказа Китая от малейших попыток свернуть Иран и РФ с курса на самовыпиливание. Такая страусиная политика означает курс на самовыпиливание и самого Китая, который своим удивительным торгашеством в приоритетных инфраструктурных проектах и принципиальным невмешательством во внутренние дела (читай, принципиальным непротивлением американской агентуре в других странах) предопределил превращение собственного ресурсного тыла в неподготовленный фронт. Запоздалое начало реализации проекта «Силы Сибири – 2» и т.п., о котором снова заговорили в связи с нападением на Иран, описывается фразой «слишком мало, слишком поздно».
Всё это означает, что с большой вероятностью цепочка событий, связанных с «широкополосным» заходом противников РФ и КНР в Среднюю Азию, становится практически неизбежной, со всеми вытекающими катастрофическими последствиями для обоих гигантов. Скорее всего, неизбежен также и прямой переход к радикально враждебным РФ силам контроля над бывшим советским Закавказьем, радикализация антироссийского курса Азербайджана.
Итак, союзной основы для защиты Ирана, тем более такой, которая бы просто убедили Израиль и США вообще не нападать на республику, на евразийском материке выстроено не было. Поздно ли теперь навёрстывать упущенное? Мне кажется, что попробовать заступиться за Иран совместными усилиями Китая и РФ стоило бы, это жизненно необходимо им самим. Их военно-экономический потенциал вполне позволяет наладить континентальную оборону при условии, что война будет вестись «без дураков». В каком сценарии это возможно?
Во-первых, необходимо в срочном порядке, пользуясь перемирием, создать полноценный военно-политический союз Китая, РФ и Ирана, в котором малейшая агрессия против любого из участников будет автоматически означать вступление в войну остальных. Защита Ирана с участием РФ и Китая сама по себе не требует наличия у Ирана ядерного оружия, поэтому заключение союза вполне может сопровождаться возвращением Ирана к условиям «ядерной сделки», включая отказ от запасов обогащённого урана — задекларировав этот отказ, можно будет выгадать на укрепление обороны Ирана сроки, необходимые для поиска нового повода для агрессии.
Во-вторых, для чёткого обозначения той самой «красной линии», пересечение которой считается нападением на участника, необходимо гласно обозначить полное неприятие практики конфликтов «серой зоны» между войной и мирным сосуществованием, с разоблачением манипуляционного, вредительского характера теорий «гибридной войны». Это подразумевает репрессии по отношению и к теоретикам «гибридных войны» в Иране и РФ, и к их «практикам» — тем, кто организует в этих странах ни к чему не ведущие «комариные укусы» и пиар несуществующих «гибридных операций» против других стран, которые якобы вот-вот приведут к победе. Именно эти «теоретики» и «практики» составляют западную агентуру, которая способствовала разжиганию войн и подставила свои страны под удар.
В-третьих, для обеспечения политической лояльности участников сформированному союзу необходимо ускоренно сформировать систему координации, главной функцией которой на первых порах станет совместное вычисление и разоблачение агентуры во властных эшелонах и когнитивной системе стран-участников, лишение агентуры возможностей дальнейшего вредительства.
В-четвёртых, необходимо будет не мытьём, так катаньем затягивать в новый союз все «промежуточные» страны Центральной Азии и создать заделы для дальнейшей экспансии. С учётом сформулированных выше требований к союзу это будет означать необходимость ускоренной модернизации всех участников, нейтрализации архаизаторских движений и предпосылок, включая низведение религиозного фактора в политической жизни.
В-пятых, если говорить не о поисках Ираном краткосрочной защиты, а уже о его долгосрочных национальных интересах, то сама по себе роль вечной «затычки» доступа в Среднюю Азию ради безопасности РФ и Китая может показаться ему непривлекательной. Это значит, что надо создать Ирану дополнительные стимулы пребывания в объединении не только в сфере безопасности, но и за счёт подключения к единому экономическому и технологическому пространству.
Из того, что мы знаем о силе агентурного фактора в Иране и РФ, ясно, что сами по себе эти страны никогда не инициируют создание действенного континентального союза, разве что, создадут очередной симулякр для провоцирования новых западных ударов. Возможно, с такой инициативой мог бы выступить Китай — и то, не исключено, что мы на него надеемся просто по той причине, что не владеем полной информации о внешнем управлении Поднебесной. Но если он решит создавать союз, то действовать придётся решительно. Во-первых, необходимо максимально задействовать публичную политику, не надеяться на кулуарные обсуждения, а, наоборот, выступить с открытым предложением, чтобы власти Ирана и РФ, привязанные собственными публичными декларациями к антизападному дискурсу, не нашли повода отвертеться. Предложение должно быть обставлено так, чтобы любая попытка отказаться вела к полному раскрытию агентурной сущности отказывающегося руководства. Во-вторых, необходимо всё так же решительно создавать коммунитарные структуры, которые займутся зачисткой западной агентуры и снятием рефлексивного управления с Запада. И здесь тоже нужно действовать публично — так, чтобы саботаж со стороны агентуры приводил к её ещё более быстрому разоблачению. Короче говоря, Китай может попытаться предотвратить катастрофическое для себя развитие событий, бросившись всеми силами на защиту территории Ирана (в случае возобновления агрессии от страны при этом мало что останется) и заодно скручивая в бараний рог транзитные республики Средней Азии, а также Пакистан и РФ, чтобы сформировать формальный военный союз с жёстким стандартами дисциплины. Он должен быть готов к тому, чтобы публично заставить РФ с Ираном пойти на масштабное преображение для отказа от самовыпиливания, и готов к тому, что его война на территории Ирана приведёт к большой ссоре со многими азиатскими странами (азиатскими арабами, Турцией, Израилем, Индией) и невозможности поставок углеводородов из региона уже сейчас. Просчитывается целый ряд негативных последствий, которые наступят для Китая сразу после перехода к активным действиям. Однако это даёт надежду на спасение. Реакция Пекина на нынешний ближневосточный кризис — это тест на субъектность Китая, на его способность вообще понять, что вокруг него происходит, и сделать своевременные практические выводы.
Впрочем, есть и альтернатива — подыграть «конструктивному» поведению Ирана, поговаривая через пропаганду, что китайцы не могут быть большими персами, чем сами персы, и дождаться появления нового фронта где-то у Джунгарских ворот с перспективами превращения во врага уже и самой РФ. Тогда не придётся тратиться на высокопропускные магистрали до самого Ирана и посылать войска за рубеж, можно будет даже сэкономить большие деньги, которые Китай тратит на закупку арабской и иранской нефти, а затем можно будет сэкономить на поставке российских углеводородов, не надо будет кормить нахлебников, не способных подняться с диванов… в общем, Китай останется в сплошных плюсах.
/Окончание в следующей записи./

 Курсы повышения квалификации педагогов: новые подходы и цифровые технологии
Курсы повышения квалификации педагогов: новые подходы и цифровые технологии  Новая жизнь старых вещей после реставрации
Новая жизнь старых вещей после реставрации  1971: Дон Маклин выпустил второй альбом "AmerIcan Pie"
1971: Дон Маклин выпустил второй альбом "AmerIcan Pie"  В 1730 году у власти в России прервалась династия Романовых
В 1730 году у власти в России прервалась династия Романовых  Американский ужас
Американский ужас  Когда тебе 52, а у тебя такой ноут
Когда тебе 52, а у тебя такой ноут  Релокантов в Тбилиси просят заткнуться. Пока вежливо
Релокантов в Тбилиси просят заткнуться. Пока вежливо  Чомга
Чомга  Про блинные булочки и вскользь про Йоркшир и пудинг
Про блинные булочки и вскользь про Йоркшир и пудинг