Глава XLVII. Оловянный гром и чечевичная сделка
 g0tzendammerung — 19.06.2025
g0tzendammerung — 19.06.2025
(17 мая 2010 года. Перевал Дятлова)
Лес дышал. Не сосновой смолой или прелью — а памятью. Стволы, обугленные и скрюченные, как кости исполинских мертвецов, шевелились в полумраке. На их коре проступали лица: Маргарита видела своего ребенка; Мастер махал платочком; а Дон Кихот, у костра, смотрел на берёзу, которая плакала глазами Дульсинеи Тобосской. Голос из древесных щелиных шептал: «Зачем бросил? Ты мог спасти...» Это был лес Эша — он выворачивал души наизнанку, играя на струнах вины.
— Они лишь тени, сеньор! — крикнул Мастер, но Дон Кихот не слышал. Он резал мясо. Труп Дульсинеи лежал на камне, а рыцарь с методичностью мясника отделял бедро от таза. Его латы блестели в огне, отражая нелепую сцену: рядом, под рваным тентом, Сталин и Хрущёв играли в шахматы фигурами из льда.
— Первородство — не брежневская кукуруза, Иосиф! — стучал
костяшками Хрущев. — Продал Эдом чечевицу — и что? Империя
развалилась!
— А ты, Никита, как Пятаков, — подлогом Карибский кризис
провернул! — шипел Сталин, передвигая ледяного ферзя. —
Первородство — это право сильного. Продал бы и я... за
правильную похлебку.
Они замерли, уставившись на котёл, где варилась та самая
чечевица — густая, кроваво-красная.
— Позовите арбитра! — вдруг гаркнул Хрущев. — Костю Тиканадзе! Он в "Мимино" правду рубил с плеча!
Из-за скалы вышел Костя — в летной форме, с усами, как у Гагарина. Он нес оленьи рога, обмотанные колючей проволокой.
— Правда — не чечевица, — провозгласил он, тыча рогами в
котел. — Ее не сварить. Вы оба — как те дураки на перевале:
спор о первородстве, когда за вами мертвые ходят!
Он указал на лес. За Сталиным маячил Пржевальский с верёвкой
на шее; за Хрущевым — Гагарин с пробитым шлёмом.
Внезапно небо разорвал гром. Но грохотало не сверху — из кармана ГойВриЭля Йохахановича, существа в барнаульском телогрее и лакированных туфлях. Он вытащил грозу — маленькую, сверкающую, как шар для пинг-понга — и запустил в котёл.
— Документация! — просипел он, тыча Мастеру в лицо папку с печатями. — Разрешение на грозу прилагается. Штраф за несанкционированную теофанию — три бессмертные души или эквивалент в чечевице.
Маргарита вскочила:
— Оставьте его! Мы уже заплатили за любовь вечностью в
чертогах!
— Бюджетный год тяжелый, — вздохнул ГойВриЭль. —
Воланду надо новую ригу на дачу. Ваши чувства — статья
расходов.
Дон Кихот поднял нож, облитый кровью Дульсинеи.
— Прекратите! — закричал он. — Вы спорите о чечевице,
пока идеалы погибают на моём камне! Я любил Дульсинею
— и съем ее, чтобы она стала частью моей борьбы! Так велит
рыцарский кодекс!
— Бред, — пробормотал Мастер. — Ты просто сошел с ума от одиночества, как всё мы.
Костя Тиканадзе подошел к котлу. Достал горсть чечевицы.
— Вот ваше первородство! Жрите! А я полетал бы лучше...
Он надел шлём, рога загудели ветром — и он взлетел, разрезая марево леса, уносясь в свинцовое небо Урала.
— Что теперь? — спросила Маргарита, глядя, как ГойВриЭль
складывает грозу в портфель.
— Теперь — бухгалтерия, — ответил он. — Ваша душа,
сеньора, оценена в... триста граммов чечевицы. По курсу
вечности.
Дон Кихот ревел у костра, жуя мясо возлюбленной. Сталин и Хрущев дрались за котел, обливаясь похлебкой. А лес смеялся голосами мёртвых — ведь боль и вина вечны, как чечевица в котле мироздания.
И только ветер — тот самый, что выл в "Blustery Day" у Кристофера Робина — подхватил яичко Фаберже, выпавшее из кармана ГойВриЭля. Оно улетело к горам, где девять теней перевала Дятлова манили путников в белую тьму.
Ведь завтра — снова восходит солнце. И снова не для нас.
|
|
</> |

 Как Strive помогает внедрять OKR и повышать вовлеченность сотрудников
Как Strive помогает внедрять OKR и повышать вовлеченность сотрудников  Легендарные советские велосипеды
Легендарные советские велосипеды  Roma locuta, causa finita?
Roma locuta, causa finita?  Всем привет!
Всем привет!  В доме-на-колесах по Северо-западу США (12)
В доме-на-колесах по Северо-западу США (12)  Экспедиция в Сухум. 08.10.2024. Прогулка по центру — 1
Экспедиция в Сухум. 08.10.2024. Прогулка по центру — 1  Крёстные князя Олега Константиновича
Крёстные князя Олега Константиновича 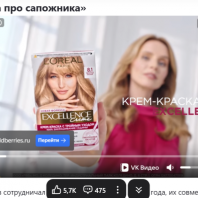 Рано обрадовалась!
Рано обрадовалась!  Патара — древний город Ликии
Патара — древний город Ликии 



