Еще раз о "бреде Максима Калашникова" и "признанных специалистах"
 m_kalashnikov — 05.01.2011
Автор сих строк не удивляется, когда его книги объявляются
бредовыми. Я и впредь буду рассказывать о носителях магических
технологий и их проектах, невзирая на все вопли. И отрицательные
мнения «авторитетов» и «специалистов» для меня останутся лишь
словами. Критерием истины для Калашникова будет одно: практика!
Успешное или неуспешное действие реальных машин и установок,
реальных устройств. Причем созданных не в подвале, «на коленке» и
не на скудные гроши самих изобретателей, а полноценных установок,
строительство коих профинансировано либо государством, либо
крупными корпорациями. А противоречит ли это официальным научным
теориям или нет – меня совершенно не волнует.
m_kalashnikov — 05.01.2011
Автор сих строк не удивляется, когда его книги объявляются
бредовыми. Я и впредь буду рассказывать о носителях магических
технологий и их проектах, невзирая на все вопли. И отрицательные
мнения «авторитетов» и «специалистов» для меня останутся лишь
словами. Критерием истины для Калашникова будет одно: практика!
Успешное или неуспешное действие реальных машин и установок,
реальных устройств. Причем созданных не в подвале, «на коленке» и
не на скудные гроши самих изобретателей, а полноценных установок,
строительство коих профинансировано либо государством, либо
крупными корпорациями. А противоречит ли это официальным научным
теориям или нет – меня совершенно не волнует.В этих условиях 90% опытных установок могут действительно оказаться «туфтой». Но оставшиеся 10% своим успехом в сто раз окупят все затраты и приведут к эпохальным прорывам, к Русской победе!
Привожу некоторые примеры из книги, которую сейчас пишу...
Ключ к фантастическим прорывам в технологиях кроется прежде всего в воспитании и подготовке Сверхчеловека. Об этом говорил умерший в 1974 году великий советский инноватор и авиаконструктор Роберт Людвигович Бартини. Его биограф Игорь Чутко в 1989 г. писал:
«Бартини (1897-1974) предположил, что гораздо проще будет построить для начала не модель развития науки и техники, а модель человека, способного развивать науку и технику.
Они, талантливые люди, изменяются гораздо медленнее, чем машины, приборы и сооружения, если вообще меняются. Техника ХХ века неизмеримо сложнее, несравнима с техникой ХIХ века, но Эдисон, Королев, Тесла, - да и Кулибин, да и Ломоносов, - явления одного порядка. И если какой-нибудь еще неведомый старатель-одиночка, впервые постучавшийся в двери ВНИИ государственной патентной экспертизы, "проходит" по такой обобщенной модели, скажем, по набору соответствующих тестов, - передавать его заявку наиболее квалифицированным экспертам на рассмотрение вне очереди».
Ольга и Сергей Бузиновские в книге «Тайна Воланда» продолжают умозаключения.
«Мысль Бартини ясна: в массе людей есть индивиды, представляющие особый интерес - "непонятые гении". Выявлять их следует с помощью специальных тестов. И вот что любопытно: всего через год после московского конгресса историков науки И.Чутко напечатал статью о "невидимом самолете" и о его конструкторе Дунаеве. "Дунаев - это Бартини", - признался Игорь Эммануилович. Может быть, барон вел собственный поиск, и настоящей целью статьи было массовое тестирование читателей?
"Считается, что много самолетов - лучше, чем мало, - рассуждал Бартини. - А много бомб с ипритом, люизитом или чем похуже? И вообще – как определить уровень развития цивилизации? По выплавке стали и добыче угля? По количеству пар обуви на душу населения? Завирально! То же самое, что оценивать греческие полисы по числу выкованных медных ошейников для рабов.
Кстати: тонкий железный ошейник был предметом гордости у афинских рабов - все равно, что здесь орден. Но есть универсальный критерий – скорость реализации желания. Сколько времени мне надо, чтобы... ну, скажем, получить огонь? Достать зажигалку, снять крышку, покрутить колесико... А в пещере? Часа три-четыре...
Наверное, каждый из вас задумывался над вопросом: что было бы, если бы?.. Если бы египтяне придумали воздушный шар? Если бы лет на сто раньше изобрели телескоп? Если бы Наполеон не отверг с порога проект парохода Фултона? И нельзя ли сократить сроки реализации сегодняшних и будущих изобретений? Я сделал выборку важнейших изобретений за последние три столетия и вычертил график: ось абсцисс - годы, ось ординат – срок реализации... Разброс точек дает среднюю линию, - это говорит о том, что сроки реализации идей сокращаются, повинуясь некой закономерности. Если эта пикирующая кривая коснется оси абсцисс, исчезнет разница между желаемым и действительным".
"Закон ибиса" - так назвал Бартини найденную закономерность. Кривая, похожая на клюв этой птицы, зеркально повторяется на графиках прироста населения Земли, потребления воды на одного человека, выработки электроэнергии и так далее... Все ускоряется: по историческим меркам в одночасье возникают и рушатся огромные державы, новые социальные и технологические идеи с невероятной быстротой охватывают целые континенты, народными массами овладевает страсть к перемене мест. Но именно об этом предупреждал Нострадамус: "События в будущем происходят с нарастающей быстротой". Ускорение... времени?»
Но отметим: Бартини ушел из нашего мира в 1974-м и выводы его относятся к ревущим 1960-м годам. Он не увидел торможения развития в нынешнем гнилом капитализме.
НА ПОЛЕ БОЯ
Но продолжим наше повествование о судьбе инноваций среди человеческого мира.
«…Перемены в тактике имели место после перемен в оружии – что необходимо должно быть – но … промежутки между такими переменами были несообразно долги. Это несомненно происходит от того, что усовершенствования в оружии суть продукты энергии одного или двух человек, тогда как перемены в тактике должны преодолеть инертность целого консервативного класса людей, который является здесь большим злом. Оно может быть излечено только открытым признанием каждой сцены, тщательным изучением положительных и отрицательных качеств нового корабля или оружия и последующим приспособлением метода пользования ими к этим свойствам. История указывает на тщетность надежды, что люди, посвятившие себя военной профессии, вообще говоря, отнесутся к изложенным истинам с должным вниманием, но зато те НЕМНОГИЕ, которые воспользуются ими, вступят в бой с большим преимуществом…»
Эти слова увидели свет в 1889 году. И принадлежат они Альфреду Т. Мэхэну, американскому адмиралу, идеологу морской силы. Поразительно проницательный был дядя. Прекрасно описал всю тупость «экспертов и признанных специалистов» в военном деле.
Уж коли мы заговорили о судьбе инноваций и инноваторов, то военное дело – еще один ярчайший пример невероятной косности и откровенной дурости «авторитетов». Ибо военное дело есть сгусток всех наук и искусств. На войне (как говаривал в восемнадцатом еще столетии наш гений чудесной стратегии Александр Суворов) удивил – победил. Вот уж где преимущество в технике и технологиях должно быть очевидно. Однако и тут мы буквально на каждом шагу видим, как стадо «признанных специалистов» каждый раз норовило затоптать авторов смелых проектов и разработок.
Что ж, приведем примеры.
Первая мировая 1914-1918 гг. Позиционный тупик. Кажется, наступать более невозможно. Оборона, основанная на пулеметах, скорострельной артиллерии и траншейной обороне выдерживает любой натиск пехоты. Атакующий захлебывается в собственной крови, ибо наступающие войска буквально выкашиваются огнем обороняющихся. Не помогают даже массированные артиллерийские подготовки. Ибо они уничтожают фактор внезапности. Обороняющийся видит, где будет нанесен удар, заранее отводя с передовых позиций свои части и подтягивая резервы по флангам будущего удара. Так что после окончания артподготовки оборонящийся снрва выдвигает вперед пулеметчиков и встречает нападающего свежими дивизиями.
Самое интересное, что такой поворот событий мог предсказать любой, кто изучал обстоятельства войн второй половины XIX века. Но только не профессиональные военные! Они оказались неготовыми к кризису средств наступления. Именно поэтому в Первую мировую французы и англичане несли умопомрачительные потери, расплачиваясь сотнями тысяч убитых и искалеченных при наступлении на немецкие линии защиты. Казалось бы, выход из позиционного тупика напрашивается сам собой: бронированная машина, сухопутный броненосец с пушкой и пулеметами, способный двигаться впереди пехоты, взламывая оборону противника и подавляя его пулеметы. Тем более, что к 1914 г. для создания танка имелись все необходимые составные части – достаточно мощные двигатели внутреннего сгорания, приличная металлургия, гусеничные машины – тракторы американца Хольта (испытан в Англии для военных целей в 1908 г.). Художник-фантаст Альбер Робида нарисовал танк еще в своем труде 1883 года. Герберт Уэллс описал танк в 1903-м. Но…
«…Ко всему прочему добавим истории ноттингемского слесаря, любимым коньком которого была выделка игрушечных машин подобного рода и чертежи которого, переданные военному министерству в 1911 году (тоже, как и следовало ожидать, положенные под сукно), были раскопаны после войны, причем на бумагах, подшитых в деле, была обнаружена следующая краткая, но выразительная резолюция: «Это – сумасшедший»…» (Генри Бэзил Лиддел-Гарт. «Правда о Первой мировой», 1935 г.)
А ведь этот сумасшедший слесарь мог бы спасти англичанам этак с полмиллиончика жизней. Лиддел-Гарт об этом не пишет, но примерно в то же время австрийские «признанные специалисты»-военные забодали проект танка, предложенного Бурштыном.
История танка вообще показывает, насколько тупы всяческие «профессиональные эксперты». Вообще-то англичане первыми в мире применили танки в битве при Сомме в 1916-м. И сделали они это благодаря двум писателям с буйной фантазией: полковнику Эрнесту Суинтону и лорду Уинстону Черчиллю. Первый предложил срочно изготавливать танки (истребители пулеметов) на базе тракторов Хольта еще по итогам первых боев во Франции летом 1914-го. Он заразил своей идеей секретаря Комитета государственной обороны полковника Ханки. Но как они ни пытались втолковать идею гусеничной бронемашины-прорывателя обороны главнокомандующему, Китченеру – ничего не вышло. Не помогло и обращение Ханки к премьер-министру Асквиту. Однако мемонрандум Ханки попал в руки морского министра, лорда Черчилля. Благодаря ему сначала Ханки, а затем и Суинтон донесли свои предложения до премьера Асквита. Но тот перепоручил дело все тому же ослу Китченеру. К тому же, идею танков обгадил в своем заключении директор Управления механического транспорта Кепель-Холдена. Все опять заглохло.
Черчилль не позволил делу погибнуть окончательно, создав комитет по созданию «сухопутного крейсера» при Адмиралтействе. Но Черчилля «ушли» из министров в 1915-м после провала высадки в Галлиполи. Работы снова замедлились. Лишь в сентябре 1915-го, после обращения Суинтона к командующему британским корпусом во Франции генералу Френчу и после того, как полковник стал секретарем Комитета по делам обороны, на свет появилась первая опытная машина – «Маленький Вилли». Его забраковали. Более удачная модель – ромбовидный «Большой Вилли» - пошел на испытание 2 февраля 1916 г. И только 15 сентября 1916-го (когда англичане вовсю кровью умылись) первые танки пошли в атаку на позиции немцев на Сомме. Первое применение наполовину кончилось конфузом: танки застревали и ломались. Да еще и идиотизм профессиональных военных добавился.
«Деятельность и умственный уровень работников, распоряжавшихся в главном штабе, удачно иллюстрирует распространенная в свое время история. Один из генералов в штабе Хейга отдал распоряжение, чтобы танки были доставлены на фронт по железной дороге. Технический эксперт, которому было поручено руководство перевозкой, указал, что это невозможно из-за габарита пути. Генерал ответил: «Это еще что за черт?» Офицер объяснил и указал, что, выбрав другой путь подвоза танков, можно избежать двух туннелей, которые исключали возможность доставки танков по этому пути. Но генерал упорно отказывался признать невозможность этого и просто приказал: «Ну, тогда расширьте туннели!»
Испытания, которым подверглись танки на Сомме, оказались не последними. 1000 танков нового образца были только что заказаны в Англии Министерством снабжения. Но враги танков (под ними мы имеем в виду не германцев, а английское командование во Франции) поспешили послать донесение в таких неблагоприятных тонах, что военное министерство отозвало свой заказ обратно…» - пишет Лиддел-Гарт.
Враги танков в собственной стране сместили Суинтона в должности командира танковым корпусом во Франции. Майор Альберт Стерн, отказавшийся выпонять указ о прекращении производства машин и сообщивший об этом идиотизме военных самому премьеру Ллойд-Джорджу, убрали из соответствующего комитета при Министерстве боеприпасов. (Кстати, Стерн был не профессиональным военным, а финансистом из Сити, надевшим форму только в войну). И только невероятные усилия фронтовиков не дали загубить производство гусеничных машин. В 1917-м танки были реабилитированы.
Разве не поучительный пример идиотских косности и упрямства «признанных специалистов»?
Другой случай. В 1915 году немцы для прорыва обороны решили применить газовую атаку. Сама ее идея принадлежала выдающемуся ученому Фрицу Габеру, еврею и при этом – ярому патриоту Германии. Немцы подвезли баллоны с хлором на позиции у городка Ипр, установили их в своих окопах и 22 апреля 1915 г. атаковали англо-французские позиции. Облака газов полностью уничтожили две французские дивизии.
Самое интересное – в том, что «признанные специалисты»-военные прошляпили возможность газовой атаки, предсказанной в «Войне миров» Уэллса почти за двадцать лет до того. Ну ладно, тупые вояки книжек не читают. Но ведь о том, что немцы устанавливают на своих позициях баллоны с газом, французы знали с конца марта 1915 от немецких пленных и «языков». Но французские командиры не обращали никакого внимания на эти сведения!
13 апреля немецкий перебежчик сообщил командованию 11-й французской дивизии о том, что емкости с удушающими газами устанавливаются батареями по 20 баллонов на каждые сорок метров по всему фронту предполагаемого прорыва. Командир дивизии генерал Ферри понял, что за ужас здесь готовится и попробовал предупредить своих соседей слева и справа по фронту. Ферри отправил тревожное донесение командиру корпуса Бальфуриэ и офицеру связи от штаба самого главнокомандующего, Жоффра. Ферри предложил уничтожить баллоны с газом артиллерийским налетом (и тогда от собственного газа при нужном ветре погибали бы немцы), одновременно отведя часть своих сил с наиболее опасного участка.
Но Бальфуриэ обозвал Ферии легковесным шутником, а офицер связи выбранил умного генерала за попытку ослабить фронт вопреки доктрине Жоффра. Ферри сняли с командования дивизией, сменив его на генерала Пютца. Этот оказался тем, кто надо: сведениям о подготовке газовой атаки не верил, игнорировал предупреждение о ней 16 апреля из бельгийских источников и со смехом сообщил о них представителю англичан. Британцы, правда, провели воздушную разведку, но так и не предложили своим частям принять меры предосторожности. И 22 апреля стало последним днем для 15 тысяч солдат союзников…
Счастье же последних заключалось в том, что немецкие генералы тоже оказались тупыми. Они не поняли замысла Габера до конца и потому оказались неготовыми к успеху – не припасли резервов для введения в прорыв, образованный облаком ядовитого газа.
А судьба великолепного, высотного и скоростного бомбардировщика «Москито» и его конструктора Джеффри де Хевиленда (1882-1965)? Де Хевиленд в 1938 году предложил министерству авиации и британским генералам революционную концепцию бомбера. Деревянный, сверхскоростной и высотный самолет, способный уйти от истребителя, которому и оборонительно-то вооружение без нужды. Но признанные специалисты и титулованные военные «профессионалы» отвергли все это как бред. Они настояли на создании тяжелой, многопулеметной дуры, покрытой броней. Все аргументы конструктора о том, что такой бомбовоз получится тихоходным и недостаточно высотным, что его смогут легко уничтожать немецкие истребители, были высокомерно отвергнуты. И только реальная война заставила производить «Москито», ставший грозой Германии и отличавшийся крайне низким уровнем потерь!
«Мосси» теряли лишь 16 машин на 1000 боевых вылетов. При этом деревянная конструкция делала их почти невидимыми для гитлеровских радаров. Как гласит «Википедия», «Москито» оснащались двигателями с компрессорами наддува, спроектированными для работы на больших высотах, и имели потолок до 11 000 метров. Крейсерская скорость на этой высоте составляла 640—675 км/ч. Такие высотно-скоростные характеристики делали его практически недосягаемым для атак противостоящих им в то время Messerschmitt Bf.109G-6. Эффективно бороться с «Москито» могли только первые реактивные истребители немцев Messerschmitt Me.262.
Как видишь, друг-читатель, такие идиоты, как «признанные специалисты», зачастую не только ничего сами нового не могут придумать, но и игнорируют опасность применения смелых новшеств противниками. В военном деле это видно, что называется, во весь рост и наиболее выпукло. Ибо потом окажется, что другие кретины-генералы окажутся неготовыми к танковой, диверсионной и воздушно-десантной войне немцев в 1940-м. Третьи – к применению израильтянами беспилотных разведчиков в 1982-м. Четвертые – к оружию террористических атак Басаева и Радуева в 1995-м и в 1996-м. И так далее.
Как родились вертолеты? Нынешний разработчик струнного транспорта Анатолий Юницкий (нещадно ругаемый нынешними экспертами) любит приводить пример создателя современного вертолетостроения, Игоря Сикорского.
После эмиграции в США, которая спасла ему жизнь, у Сикорского остались последние 20 долларов. И, будучи в Чикаго, он инвестировал последние деньги очень удачно — купил билет на концерт Сергея Рахманинова. После концерта разговорились… Рахманинов спросил, сколько конструктору необходимо на открытие своего дела. Тот сказал: 500 долларов. Рахманинов полез в карман, вытащил толстую пачку денег — весь гонорар за концерт — и протянул ему. Там было 5 тысяч, большие по тем временам деньги...
В вертолёт Сикорского в Америке никто не верил. Более того, в 30-е годы ХХ века, через 30 лет после его первых удачных экспериментов с прототипом вертолёта в Киеве, большинство инженеров считали, что принятая им схема с одним несущим и одним рулевым винтом никогда не будет работать. Сикорскому удалось доказать обратное — и с середины прошлого века, по этой схеме, впоследствии во всём мире названной классической, летают 90% всех вертолётов. И все президенты США летают только на таких вертолётах.
Выводы экспертов относительно чего-либо нового — на то оно и новоё! — всегда ошибочны. В противном случае они были бы самыми успешными и самыми богатыми людьми, так как знали бы завтрашний день и понимали бы, куда нужно вкладывать свою энергию и деньги, чтобы быть успешными и много зарабатывать. Весь исторический опыт свидетельствует об обратном — зарабатывают много и успешны только те, кто вкладывает деньги в такие проекты, куда и «эксперты» и «специалисты» (в новом деле подлинным и экспертом и специалистом может быть только его Создатель и Творец) не вложили бы и копейки.
Еще один излюбленный А.Юницким пример.
В XIX веке Министерство транспорта России 18 раз давало отрицательное заключение императору на предложение прогрессивных деловых кругов построить Транссибирскую магистраль, чтобы соединить окраину империи с Москвой, сохранить целостность страны и иметь выход из Европы к Тихому океану. В качестве альтернативы специалисты-транспортники предлагали развивать более «перспективное» направление — гужевой транспорт в европейской части страны. И это в то время, когда, например, в США было построено в течение 10 лет (с 1880 г. по 1890 г.) 117,7 тысяч километров железных дорог, что по протяжённости равнялось 12 Транссибам.
Иной раз в лужу садились даже признанные провидцы. Такие, скажем, как гениальный Герберт Уэллс. В 1901 году он издал книжку «О воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль». В ней, наряду с довольно точными предсказаниями на грядущий век, он сделал и несколько огромных ошибок.
«Воздухоплавание вряд ли внесёт существенные перемены в систему транспорта... Человек — не альбатрос, а земное двуногое, весьма склонное утомляться и заболевать головокружением от чрезмерно быстрого движения, и сколько бы он ни воспарял в мечтах, а жить всё-таки ему придётся на земле». Писатель полагал, что к 2000 году непременно и даже, возможно, к 1950-му «будет изобретён такой аэроплан, который поднимется в воздух и благополучно вернётся на своё место».
Военно-воздушные силы, представленные в основном аэростатами и дирижаблями, в ХХ веке, мол, станут применяться главным образом для разведки и наблюдения. Вряд ли на летательных аппаратах смогут устанавливать огнестрельные орудия, тем более, что они при каждом выстреле дают толчок отдачи.
На будущность танков (слова такого, как и самой машины, ещё не было) Уэллс в 1901-м глядел весьма скептически. «Можно предвидеть опыты с блиндированными передвижными прикрытиями для атакующих людей на обстреливаемой местности. Я допускаю даже возможность своего рода сухопутного броненосца, к которому уже сделан шаг с появлением бронепоездов. Но лично мне не нравятся и не кажутся надёжными эти громоздкие, неповоротливые машины».
Уэллс не видел ничего серьезного и в подводных лодках: «Признаюсь, как я ни пришпориваю своё воображение, а оно отказывается понять, какую пользу могут приносить эти лодки. Мне кажется, что они способны только удушать свой экипаж и тонуть. Уже одно длительное пребывание в них должно расстраивать здоровье и деморализовать человека. Организм ослабевает от долгого вдыхания углекислоты и нефтяных газов под давлением четырёх атмосфер. Даже если вам удастся повредить неприятельское судно, четыре шанса против одного, что люди его, дышавшие свежим воздухом, спасутся, а вы с вашей лодкой пойдёте ко дну». Он сравнивал атаку субмарины на надводный корабль с попыткой человека, у коего завязаны глаза, застрелить слона из револьвера.
Но уже в 1916-1917 годах мир увидит и танки, и бомбардировщики, и подводные лодки, которые едва не удушат своею блокадой Англию...
Выводы делайте сами. Особенно сейчас, когда вы услышите, как крутые эксперты поливают кого-то дерьмом за «бредовые идеи».
***
«Эксперты, занимающиеся технологическим прогнозированием, последовательно объявляли «невозможными или, во всяком случае, коммерчески неэффективными»: самолеты, телевизионное вещание, космические аппараты, видеомагнитофоны, персональные компьютеры, сетевые технологии… Сугубо отрицательной была реакция сообщества физиков-ядерщиков на гипотезу Л.Сцилларда о возможности создания ядерного оружия, выдвинутую после опытов О.Гана по делению ядер урана. Научное сообщество не смогло предсказать ни одной «знаковой» технологической («Титаник», Чернобыль, «Колумбия», распад энергетической сети и кризис генерирующих мощностей) или социальной (распад СССР, террористические акты нового типа, «постиндустриальные»/ «барьерные» войны) катастрофы, хотя довольно точные описания подобных катастроф фигурируют в художественной литературе. Точно так же не была предсказана «революция сознания» 1968 года; из достаточно очевидного тренда «эпидемического перехода» эксперты не смогли сделать вывод о «фитнесс-революции» 1970-х годов и создании «индустрии здорового образа жизни»…» - пишет Сергей Переслегин в книге «Новые карты будущего».
***
В отечественной Академии наук не любят вспоминать о том, как она в эвакуации (в Казани, декабрь 1941 г.) забодала саму идею создания атомной бомбы. Дело было аккурат после письма выдающегося физика Георгия Флерова (основатель Объединенного института ядерных исследований в Дубне, 1913-1990 гг.) Сталину о том, что на Западе, видимо, начались работы по созданию ядерного оружия. И слава богу, что Сталин не внял мнению остепененных академиков, но зато поверил и Флерову, и Лаврентию Берия, каковой добыл сведения о начале атомной программы в США и Англии по каналам разведки! И сегодня вся история подается так (цитирую официальный сайт ОИЯИ в Дубне):
«Г.Н.Флеров обращается в АН СССР с просьбой дать ему возможность выступить перед специалистами. В конце декабря 1941 года выступает перед академиками А.Ф.Иоффе, П.Л.Капицей и другими физиками с докладом о необходимости исследовать цепные ядерные реакции на быстрых нейтронах. В докладе он указывает конкретные пути решения ряда основных проблем. Не останавливаясь на этом, он пишет 2 письма И.В.Сталину, в которых убедительно доказывает возможность и необходимость создания атомной бомбы. Эти письма послужили для советского руководства толчком для развертывания целенаправленных исследований. И это в то время, когда вопрос стоял о жизни или смерти советского государства!»
Не устану повторять: для научно-технических прорывов нужны именно «безумцы». Потому что «признанные специалисты» чаще всего ошибаются, принимая новое за плоды воображения сумасшедших.
Обычные люди вообще чертовски консервативны. Почтенная публика чаще всего выступает в роли стада баранов-ретрогадов. Возьмем, скажем, биографию великого английского врача Эдварда Дженнера, принесшего человечеству огромное благо: первую в мире вакцину. Именно Дженнер в 1796 г. сделал первую в истории прививку против черной оспы, используя биоматериал от переболевшей коровы. Изобретение Дженнера спасло, пожалуй, сотни миллионов (если не пару миллиардов) жизней – ведь оспа убивала треть заболевших, а остальных оставляла обезображенными. Но Бог ты мой, сколько же пришлось выдержать Дженнеру-новатору! Против него выступила церковь. В публике ходили самые дикие слухи о прививках. Помню карикатуру тех времен: у одного привитого из задницы вырастает пол-теленка, у другого – коровьи рога. Когда сегодня наблюдаешь циркуляцию страхов и ужасов в публике по поводу генетически модифицированных продуктов или стволовых клеток, то поневоле вспоминаешь историю Дженнера. Хотя он победил: в конце концов, его прививки стали государственным делом, оспа отступила.
Однако факт остается фактом: первоначально изобретателя вакцины готовы были с потрохами слопать.
Уж коли разговор зашел о медицине, то здесь пример ослоумия «признанных экспертов» наиболее нагляден.
Вплоть до второй половины XIX столетия тогдашние врачи буквально убивали пациентов. Доктора той эпохи не мыли и не обеззараживали руки, отчего переносили инфекцию. Особенно это касалось рожениц. Так называемая «родильная горячка», вызванная заражением женщин, влекла за собою чудовищную смертность и рожениц, и новорожденных. До тупых мозгов тогдашних докторов не доходила мысль о существовании болезнетворных микроорганизмов, открытых аббатом Спаланацци и Луи Пастером (Поль де Крайф. «Охотники за микробами» - Москва, «Молодая гвардия», 1957 г.).
Однако медики рук не обеззараживали, перенося на них гноеродные бактерии. Так, в Вене 1840-х существовали две акушерские клиники. В одной, где практиковались студенты-медики, женщины мерли, как мухи – погибало до трети рожениц. В другой, где готовили акушерок, смертность была куда ниже. (Алексей Водовозов. «Остановись, гниенье!» - «Популярная механика», сентябрь 2010 г.). В 1847 году врач Игнац Филип Земмельвейс занялся проблемой и доказал: рожениц убивают сами медики: ибо студенты шли работать в родильное отделение после учебных вскрытий трупов, перенося заразу на руках. Зиммельвейс придумал обрабатывать руки медиков хлорных раствором, за 1847 год снизив процент смертности рожениц в клинике с 18,3% в месяц до 1,2%. Казалось бы, все блестяще доказано – и опыт нужно внедрять, но…
«…Когда Зиммельвейс попытался пропагандировать новый метод среди коллег, его подняли на смех и объявили шарлатаном. Во-первых, травить холеные руки хирурга хлоркой – нонсенс, кожа трескается и грубеет. Во-вторых, родильная горячка возникает сама по себе. В-третьих, сомневаться в чистоте рук докторов и обвинять их в убийстве собственных пациентов – это вызов всему врачебному сообществу. Началась самая натуральная травля врача-новатора. В марте 1849 года Зиммельвейса изгнали из Венского университета, его методика была забыта, смертность в обеих клиниках вернулась к прежним показателям, «смута» была устранена, «честь мундира» спасена»…» - пишет А.Водовозов.
Психика врача не выдержала. Он еще пробовал пропагандировать свой опыт, уехав в Венгрию. Но и там его работа подвергалась шквалу нападок. В 1865 году врач умер в психиатрической лечебнице. Памятник ему установили лишь в 1906 году.
Почти одновременно «признанные специалисты» едва не затравили английского доктора Джозефа Листера – еще одного пионера антисептики, почитателя работ Луи Пастера. В его клинике в Глазго пациенты хирургического отделения после операций умирали пачками. Оно и немудрено: хирургическое отделение лазарета поставили на месте бывшего холерного барака, рядом с едва забросанными землей трупами умерших от холеры (запах разлагающихся тел проникал в хирургический блок). Листер ввел обеззараживание карболкой помещении, рук и хирургических инструментов, резко снизив послеоперационную смертность. В 1867 г. Листер публикует работу «Об антисептическом принципе в хирургической практике».
«…Она в точности повторила судьбу публикаций Зиммельвейса – ее подняли на смех. Старая английская профессура приняла работу «сорокалетнего выскочки» за личное оскорбление: заливать гангрену карболкой? Распугивать неведомых зверюшек, которых ни один порядочный врач не видел ни в одной воспаленной ране?» - пишет А.Водовозов.
Но Листер не сломался и доказал свою правоту, союзничая с Луи Пастером (тот тоже показывал опасность занесения микробов в раны). Листер отстоял свою правоту Но сколько лет и нервов ему это стоило!
Так что если вы увидите, как признанные эксперты вьются над кем-то и орут: «Бред! Шарлантанство!» - не торопитесь делать скоропалительные выводы. Вполне возможно, что воронье просто пытается заклевать нового гения.
И так – везде, а не в одной лишь медицине.
1857 год. Полоснув себя бритвой по горлу, уходит из жизни британский адмирал Роберт Фицрой. Ярый поборник развития новой тогда науки, метеорологии, Фицрой создал Метеорологический департамент. Он, как и Леверье во Франции, пытается предсказывать погоду, собирая по телеграфу данные с разных метеостанций. Именно Фицрой дает первые штормовые предупреждения английскому флоту. Но адмирала буквально травят обыватели и консерваторы-ученые. Над Фицроем смеются, в газетах публикуются издевательские карикатуры. Лицемерные и тупые святоши твердят, что погоду боженька дает, а потому предсказывать ее просто грешно. Нервы у моряка-инноватора не выдерживают…

 Интерактивное оборудование: современные технологии для бизнеса и образования
Интерактивное оборудование: современные технологии для бизнеса и образования  Народная артистка Евгения Добровольская скончалась через две недели после
Народная артистка Евгения Добровольская скончалась через две недели после  Вечернее
Вечернее  Приличные анекдоты и шутки. Часть 110.
Приличные анекдоты и шутки. Часть 110. 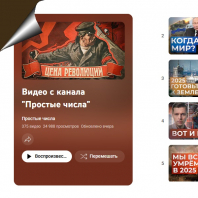 Так, всё же! «Кому на Руси жить хорошо» и «Что делать?»
Так, всё же! «Кому на Руси жить хорошо» и «Что делать?»  ЗВУКИ И ЗАПАХИ В ПРОВАНСЕ
ЗВУКИ И ЗАПАХИ В ПРОВАНСЕ  New Glenn
New Glenn  Лолита Милявская перешла от обороны, в которой она провела год после «голой
Лолита Милявская перешла от обороны, в которой она провела год после «голой  Рабочие процессы
Рабочие процессы 


