Для чего был праздник Рождества Христова в мiре земном
 teo_tetra — 08.01.2022
teo_tetra — 08.01.2022

И.А. Ильин. О приятии мiра
Западное обмiрщенное коммерциализирование Рождества, ставшее притчей во языцех, дает повод многим нашим пастырям и особенно архипастырям, подчеркивающим важность своего духовного сана, к месту и не к месту напоминать о духовности, ссылаясь на слова апостола: «Не любите мiра, ни того, что в мiре: кто любит мiр, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15), – порицая этим не только западное обмiрщение Рождественского праздника, но и оппозиционно-патриотическую деятельность мiрян, оправдывая этим нынешнее бедственное состояние нашего народа в полуразрушенной стране и осуждая "греховную зависть к чужому богатству" (олигархов). С другой стороны "бегство от мiра" в леса и в "землянки" проповедуют некоторые "единственно истинные" ревнители. Об этой "превосходящей духовности" церковных жрецов-функционеров и о "нелюбви к мiру" ревнителей не по разуму – уместно привести рассуждения православного философа И.А. Ильина в его многократно переиздававшейся в эмиграции работе "Основы христианской культуры" (1937), где этому посвящена глава "О приятии мiра", которую можно применить и к пониманию земного значения Рождества Христова. – ред. РИ.
...Действительно, в христианстве имелась эта древняя традиция,
отвергающая мiр. Эта традиция была порождена эсхатологическими
местами Нового Завета, особенно Евангелия и Апокалипсиса (не
указывающими, впрочем, никаких определенных сроков грядущего
конца); она окрепла затем под влиянием греческой философии (стоиков
и неоплатоников) и затем дошла до крайних выводов (вроде
самооскопления Оригена)... Однако эта традиция никогда не выражала
последнего и глубочайшего отношения христианства к Божьему, именно
к Божьему мiру. Было бы чрезвычайно поучительно проследить через
всю литературу христианской аскетики, как платоническое и
стоическое (и чуть ли не буддийское) отвращение от мiра и осуждение
его уживается в ней (не примиряясь!) с христианским учением о
благодатной устроенности мiра и его божественной ведомости
(Провидение), и о вездеприсутствии Божием... Здесь перед нами два
различных – иногда кажется даже – противоположных мiросозерцания:
они как бы стоят рядом, не вытесняя друг друга, а подсказывая
человеку два различных жизненных пути: мiроотвержение и
мiроприятие.
Первый путь был последовательно продуман и прочувствован до конца в первые же века. Согласно этому воззрению, Царствие Божие не только не от мiра сего, но и не для мiра сего. Мiр внешний и вещественный есть лишь временный и томительный плен для христианской души; ей нечего делать с этим мiром, в котором она не имеет ни призвания, ни творческих задач. Мiр и Бог противоположны. Законы мiра и законы духа непримиримы. Двум господам служить нельзя, а господин мiра есть диавол. «Этот» век и «грядущий» век – два врага. И смысл христианства состоит в бегстве от мiра и из мiра, т. е. в неуклонном угашении своего земного человеческого естества. Надо возненавидеть все мiрское и отдалить его от себя, иначе оно само отдалит нас от Бога. Все мiрские блага, «все сотворенное» надо почитать чужим и не желать этих вещей. Христианин не должен вступать в брак, не смеет приобретать собственность, не должен служить государству. Мало того: ему подобает молиться – «да прейдет мiр сей» и да сократятся его дни. Сам же он должен обречь свою плоть увяданию или медленному «умерщвлению» под страхом «лишиться последнего благословения». Ему подобает стыдиться того, что у него есть тело и телесные потребности. Он должен приучиться видеть врага в своей плоти и гнушаться ею: здоровое тело должно быть ему нежелательно; оно должно стать на земле, как изваяние или «истукан», и сам он должен жить так, как если бы его совсем «не было в мiре сем».
Таковы последовательные выводы из мiроотреченности.
Что остается делать в мiре такому христианину? Какую он может творить культуру? За что ему бороться «в этом мiре», что отстаивать? Если Христос пришел в мiр, учил и страдал для того, чтобы увести своих учеников из мiра и научить их отвращению ко всякому мiрскому естеству, то самая идея «христианской культуры» на земле есть идея ложная и несостоятельная. У такого христианина нет родины на земле, ибо она у него в небесах. Какая может быть у такого отшельника забота о правосознании, о правопорядке, о суде и справедливости? Какая печаль столпнику от того, что гибнет хозяйство, что извращается наука, что горят музеи? Он призван вместе с Афинагором и Тертуллианом «презирать мiр и помышлять о смерти»… И если христианство отвергает «мiр» – материю, природу, тело, хозяйство, собственность, государство, науку, искусство и с ними все земные дела, – то оно не может ни вести человека в этом мiре, ни учить и вдохновлять человека в этом мiре: оно может только уводить его из этого мiра. Благословить его на земную жизнь и вдохновить его к этой жизни оно не в состоянии. Тогда оказывается, что земная жизнь дана человеку не для того, чтобы он в ней жил и творил, славя Бога своею жизнью и своим творчеством (идея христианской культуры!), а для того, чтобы он не принимал ее и учился медленному самоумерщвлению; истинный христианин не имеет на земле творческого призвания и творческой цели...
Если же обратиться к первоисточникам Нового Завета и внимательно исследовать их, то придется прийти к выводу, что понятие «мiра» употребляется ими в нескольких различных значениях и что самая проблема «отвержения» и «принятия» «мiра» должна разрешаться в связи с этим различно. Так иногда под «мiром» разумеется все мiроздание в целом, как оно сотворено самим Богом; иногда же «мiром» именуется вся совокупность народов, которым должно быть проповедано Евангелие. Вряд ли можно допустить, чтобы Христос учил нас отвергать творение Божие или же всю совокупность народов, чающих благовестие и имеющих получить его… Одно это сопоставление различных мест Писания должно научить нас чрезвычайной осторожности в разрешении этой проблемы. Какой же мiр и в каком смысле «отвергается» или «принимается» Новым Заветом?
В Евангелии и в Посланиях «мiр» отвергается лишь постольку, поскольку он сам отпал от Бога и вот противостоит Ему как самостоятельный, чуждый Ему и далекий; это есть мiр, утверждающий себя без Бога и против Бога, в качестве самостоятельной ценности и реальности, – мiр, искушающий и прельщающий человека ... и ведущий его к диаволу. Именно поэтому и постольку «мiр» «лежит во зле» (Ин 5:19) и подчинен «князю мiра сего» (Ин 12:31; 14:30; 16:11); именно постольку «дружба с мiром есть вражда против Бога» и «кто хочет быть другом мiру, тот становится врагом Богу» (Иак 4:4). Христианин не может и не должен любить такой мiр...
Но напрасно было бы толковать это «мiроотвержение» как хулу на созданную Богом вселенную или как коренное опорочение человеческого естества и его грядущей судьбы.
Вселенная создана Богом – и небо, и земля, и море, и «все, что в них»; и Бог есть «Господь неба и земли» (Мф 11:25; Лк 10:21)... Так что «сила Его и Божество» «от создания мiра» «видимы» «через рассматривание творений» (Рим 1:20). Поэтому объективный состав Богосозданного мiра отнюдь не подлежит хуле и отвержению.
Но это относится и к человеку. Человечество не отвергнуто Богом, а потому не может отвергаться и нами. Напротив, Бог спасает и просвещает человека. «Так возлюбил Бог мiр, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16), «чтобы мiр спасен был через Него» (Ин 3:17). Христос есть «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мiра» (Ин 1:29); «Он есть умилостивление за грехи»… «всего мiра» (1 Ин 2:2), и в Нем Бог «примирил с Собою мiр» (2 Кор 5:19; Кол 1:20). Именно поэтому Христос говорит о Себе: «Я свет мiру» (Ин 8:12; срав. Ин 3:19 и сл.), а об апостолах: «Вы свет мiра» (Мф 5:14) и указует, что Евангелие «должно быть проповедано» «во всех народах» (Мк 13:10) и «по всей вселенной» (Мф 24:14)…
Как же не принять мiр, когда он создан Богом, „возлюблен“ Им, спасен, просвещен, искуплен и отдан во власть Христу, Сыну Божию? Когда „не нуждающийся ни в каких благах Бог для человека устроил небо, землю и стихии, доставляя ему через них всякое наслаждение благами“ (Антоний Великий); когда в мiре „нет ни одного места, которого не касалось бы Промышление“ Божие, „где не было бы Бога“, так что желающий „зреть Его“ должен только смотреть „на благоустройство всего и Промышление о всем“ (Антоний Великий)? И вся „эта сотворенная природа“ есть не что иное, как великая „книга“, в которой человек, „когда хочет“, может читать „словеса Божии“ (Евагрий Монах)? И когда христианину дано великое задание не только проповедать Христа во всей вселенной, но и внести Дух Его во все „земное“?
Поистине Христос принял мiр и воплотился не для того, чтобы научить нас отвергать мiр, понося и презирая создание Божие, но для того, чтобы дать нам возможность и указать нам путь верного, христианского мiроприятия; чтобы научить нас верно принимать и творчески нести бремя вещественности (плоти) и бремя человечески-душевного разъединения (индивидуальности); чтобы научить нас жить на земле в лучах Царства Божия. Мы не выше Христа, а Христос принял земную жизнь и вернул ее в благодатном сиянии. И тот, кто принимает мiр, тот включает в свой жизненный путь творческое делание в этом мiре, т. е. совершенствование в духе – и себя самого, и ближних, и вещей, а в этом и состоит по существу христианская культура...
В первые века нередко думали, что надо принять Христа и отвергнуть мiр. «Цивилизованное» человечество наших дней принимает мiр и отвергает Христа. А в средние века Запад выдвинул еще иной соблазн: сохранить имя Христа и приспособить искаженный иудаизмом дух Его учения к лукаво-изворотливому и властолюбивому приятию непреображаемого мiра.
Верный же исход в том, чтобы принять мiр вследствие приятия Христа и на этом построить христианскую культуру; чтобы, исходя из духа Христова, благословить, осмыслить и творчески преобразить мiр; не осудить его внешне естественный строй и закон, и не обезсилить его душевную мощь, но одолеть все это, преобразить и прекрасно оформить – любовию, волею и мыслью, трудом, творчеством и вдохновением...
Царство Христово «не от мiра сего» (Ин 18:36), но о нем возвещено мiру и человечеству; и поэтому его идея высказана для мiра сего как призвание и обетование. Неверно думать, что Царство Божие подобно земным царствам. Также неверно думать, будто оно существует для мiра сего. Но «мiр сей» существует как величайшее поле (срав. Мф 13:38), для посева и возрастания Царства Божия...
Ныне же, когда вредоносное явление безбожной науки, когда страшная сила религиозно-безсмысленного государства, когда внутренняя обреченность безыдейного хозяйствования, когда растлевающая пошлость бездуховного искусства наполняют Божью землю расплясавшимися харями, христиане не могут ни отвернуться от этого зрелища, провозглашая «нейтралитет», ни укрыться за словесное «мiроотвержение» и «непротивление». Напротив, они должны найти в себе веру и волю для искреннего творческого христианского мiроприятия и для борьбы за свое поле и за свой посев. Тогда начнется исцеление.
+ + +
МВН. И.А. Ильин написал эту свою работу в 1937 году, когда мiр хотя и был уже в состоянии апокалипсической катастрофы в удерживающей России, но еще давал надежду на восстание "преображающих" здоровых сил в Европе и не имел столь явных признаков конца, которые человечество создало себе к нашему времени (см.: Грядущий Апокалипсис отбрасывает свои тени...). Поэтому сегодня надежды Ивана Александровича на возможность христианской борьбы за "преображение" мiра выглядят утопичными. Хотя всё в руках Божиих, и это не отменяет нашей обязанности до конца сопротивляться строителям царства антихриста, стремясь для этого преобразить хотя бы частично жизнь в своей близкой профессиональной и территориальной среде, чтобы как можно больше людей могло спастись в Царство Божие...
Прочесть всё
=> https://rusidea.org/250960154

 Как удивить близких за ужином: проверенные приёмы и неожиданные сочетания блюд
Как удивить близких за ужином: проверенные приёмы и неожиданные сочетания блюд  Иранцы сбили один из наших F-35. Все 57 членов экипажа катапультировались и их
Иранцы сбили один из наших F-35. Все 57 членов экипажа катапультировались и их  Про Цфат
Про Цфат  19 лет
19 лет 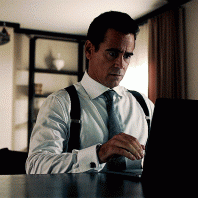 О просмотренном
О просмотренном  Стритарт Москвы
Стритарт Москвы 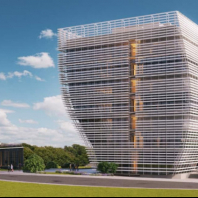 Удар по институту Вейцмана в Тель-Авиве. 15.06.2025
Удар по институту Вейцмана в Тель-Авиве. 15.06.2025  Под пальмами расселся котик от nori_2225
Под пальмами расселся котик от nori_2225  Прогулка по летнему Санкт-Петербургу + птички и не только
Прогулка по летнему Санкт-Петербургу + птички и не только 


