Чем плох поздний Островский?
 pavelrudnev — 01.07.2023
pavelrudnev — 01.07.2023
Действительно загадка: почему театральная среда возненавидела
пьесы Островского в его последнее десятилетие. Последние пьесы
Александра Николаевича, которыми мы теперь наслаждаемся, - «Таланты
и поклонники», «Поздняя любовь», «Без вины виноватые» - оказывались
высмеяны. Их торпедировали, они воспринимались как самопародия.
Островский надоел театральной среде, возможно, в том числе и как
монополист.
Надо посмотреть на проблему глазами людей перелома веков, а не
современным взором. Проницательный критик, приятельница
Станиславского Любовь Гуревич в одной статье 1908 года объясняет
это: «Живые современные люди, чуткие к потребностям не только
сцены, но и литературы, они отказались от избитого репертуара, от
тех хотя бы и талантливых драматических произведений, которые - как
произведения Островского - не имели глубокого духовного
интереса».
Прислушайтесь: Островский «лишен духовного интереса». Как это так?!
А дело не в Островском. Реализм, который властвовал над театром с
гоголевских времен, опостылел. Надоело бытописание. В
физиологическом очерке и его наследии виделась только рутина.
Человек перелома веков ощущал жажду инобытия, не посконной
действительности, а грез, мечтаний, творимой легенды.
Посмотрим на живопись. Прерафаэлиты отказались от реализма,
перечеркнули подражательность жизни в искусстве, начавшуюся с
Рафаэля, и вернулись по стволу культуры назад, к средневековому
мистериальному дореалистическому мироощущению, где быт пронзен
метафорой, символом, аллегорией, где действительность символична и
телеологична.
Посмотрим на русских передвижников. Что там главное: социальная
критика или специфическое мастерство художника? Стоит перед
передвижниками, например, тайна света или цвета? Решают они вопросы
формы, бытийственные моменты?
Таиров в своих манифестах писал о бескрылом реализме, о
безыскусности бытописания, подражательного искусства. Там, в театре
прошлого, есть только копия реальности и форма социального
протеста. Искусство Камерного театра должно было бросить вызов этой
посконности, психологизму как имитации, измемождающей эмоциональный
фон зрителя. Так и Василий Кандинский в книге «О духовном
искусстве» отказывает реалистической подражательной живописи в
духовном содержании: там нет символа, там нет жизнестроительства,
там нет символики цвета. Духовное для Кандинского - в исканиях
русского авангарда 1910-1920х годов, а совсем не в
передвижниках.
Герои Островского бесконечно обусловлены социальными сословными
отношениями и денежными вопросами. Герои Чехова, Горького,
Андреева, Метерлинка не решают материальных вопросов, они им
безразличны (а те, кто интересуется, комедийны, вроде Пищика).
Вишневый сад - это коллективная галлюцинация, символ и аллегория, а
не объект купли и продажи, обмена и аренды.
В этом и парадокс, что сегодня мы видим в Островском духовное
пространство. А тогда не видели. Над ним висело слепое пятно.
Островского «спас» 1917 год. Как только жизнь уничтожила культуру
XIX века, включились мощные ностальгические интонации. И теперь
Островский для всех нас - это про Россию, которую мы потеряли.
|
|
</> |

 Как выбрать реестровый принтер
Как выбрать реестровый принтер  95% корпоративных инвестиций в ИИ убыточны, а на рынке надулся пузырь
95% корпоративных инвестиций в ИИ убыточны, а на рынке надулся пузырь 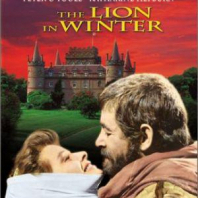 А у нас такая заводная семья! Простая, простая, нормальная семья!
А у нас такая заводная семья! Простая, простая, нормальная семья!  Долой стыд, или нудизм в СССР — этот день в блоге
Долой стыд, или нудизм в СССР — этот день в блоге  Новый Иерусалим. Дорога к храму
Новый Иерусалим. Дорога к храму  Почему грот ракушек в Маргите по сей день считается величайшей загадкой в мире
Почему грот ракушек в Маргите по сей день считается величайшей загадкой в мире  Элиста в мемуарах, день третий. Одинокий Тополь
Элиста в мемуарах, день третий. Одинокий Тополь  «Диссертация»
«Диссертация»  Кошачья память
Кошачья память 


