Предел южного холода
 matveychev_oleg — 06.02.2020
В Лондон — за атласами и сифилисом
matveychev_oleg — 06.02.2020
В Лондон — за атласами и сифилисомПомимо консервов, экспедиция нуждалась и в других западных технологиях. У датчан и британцев купили новейшие карты, морские альманахи, описания дальних плаваний и плохо известных земель, труды по навигации, гидрографии и магнетизму, а также много разной техники: машину для опреснения воды, хронометры, телескоп, глубоководный термометр и секстанты — инструменты для определения высоты Солнца над горизонтом. Правда, Беллинсгаузен лично обнаружил в британском морском альманахе 108 ошибок, купленные в Англии хронометры почти сразу начали отставать, а глубоководный термометр вообще сломался уже при втором использовании.
И все же Запад оставался для русских желанным источником знаний и компетенций. С самого начала было принято решение выписать из Германии двух натуралистов для научных исследований в пути. Из России в Антарктику отправился единственный ученый – 25-летний профессор Казанского университета астроном Иван Симонов. А вот оба ученых немца в Копенгаген, где они должны были присоединиться к экспедиции, не явились, сославшись на недостаток времени для подготовки.
Свободное от поиска ученых время в Европе тоже тратили с пользой. Правда, культурная программа зависела от социального положения моряков. Офицеры во главе с Беллинсгаузеном осмотрели Вестминстерское аббатство с его музеем, Тауэр, Собор Святого Павла и даже посетили театры. Простые матросы в музеи не попали, но тоже провели время не без удовольствия. Во всяком случае, после отплытия у троих «служителей» на шлюпе «Мирный» штаб-лекарь Берх обнаружил венерическое заболевание.
Миф о вечном русском пьянстве
На самом деле в начале XIX века Россия была одной из самых малопьющих стран в Европе. Только норвежцы пили меньше. А французы, например, употребляли в 15-20 раз больше этанола на душу населения. Проблема, однако, заключалась в том, что россияне пили преимущественно крепкие напитки и часто помногу за раз.
Венерические заболевания в то время — обычное дело?
Раб по цене литра вина
После Англии расстояния резко увеличились. От британских берегов до Канарских островов плыли без малого три недели. А оттуда до Рио-де-Жанейро — полтора месяца. Канары и Бразилия были последними местами, где можно было закупить недостающее. Вино россияне закупили на Тенерифе, ром и табак — в Бразилии. Там же, в Бразилии, члены экспедиции наблюдали, как продают и покупают живых людей.
Работорговля вызвала у русских офицеров отвращение: на их глазах надсмотрщик бил тростью живой товар, чтобы заставить несчастных подпрыгивать и демонстрировать веселье, скача с ноги на ногу и распевая плясовые песни. Тем рабам, которые не пели и смотрели «не весело», тростью «придавали живости». «При входе в сии мерзостные лавки представляются взорам в несколько рядов сидящие, коростою покрытые негры, малые напереди, а большие позади», — писал Беллинсгаузен.
Капитан даже вскользь не упоминает в своих записках, что в самой России именно в тот момент в крепостной зависимости пребывало более половины нации. Русских мужиков так же, как бразильских рабов, запарывали насмерть, сажали на цепь, заковывали в колодки, травили собаками, а девушек забирали в господские гаремы. Только при Павле I (1796-1801) были изданы первые законы, ограничивавшие произвол помещиков над крепостными, в частности, запрещавшие их калечить и убивать.
Сколько стоил человек?


Павел Михайлов. Вид ледяных островов, между 1821 и 1824 годами
Государственный Русский музей
Впереди у наших героев – полтора года тоски среди ледяных волн, и первая
встреча со смертью. Моряки скучают, поправляют настроение алкоголем, закусывают мясом пингвинов и любуются северным сиянием. Совсем скоро они откроют множество неизведанных островов и — случайно — новый континент, но не поймут этого.
Полтора года «взорам мореплавателей представлялись только вода, небо и горизонт». Это единообразное зрелище навевало, по словам Беллинсгаузена, «некоторое уныние». Жара и периодические штили в тропиках «причиняли досаду», но настоящие испытания начались, когда россияне достигли «пределов южного холода», то есть высоких широт южного полушария. Соленая пища, несвежая вода, спертый воздух, тяжелая, рутинная работа, а также постоянный страх быть раздавленными льдами или утонуть во время шторма действовали на моряков крайне удручающе.
«Сердце человеческое охладевает, чувства сближаются с окружающими предметами, человек бывает пасмурен, задумчив, некоторым образом суров и ко всему равнодушен» — писал Фаддей Беллинсгаузен.
Кислые щи и тюлени на ужин
На кораблях был введен жесткий распорядок дня. «Служителей» разделили на три вахты. Обед и ужин подавали незадолго до полудня и в половину шестого, чтобы успели поесть заступающие на новую смену моряки. Готовили щи и кашу, добавляя в них солонину. А иногда и свежее мясо – на корабле были живые куры, свиньи и бараны. Когда получалось, устраивали также охоту и рыбалку. В антарктических водах дичью чаще всего служили пингвины, мясо которых вымачивали в уксусе и добавляли в кашу. Иногда попадались тюлени, морские птицы и даже акулы. А по праздникам – например, в годовщину избавления России от нашествия Наполеона — Беллинсгаузен велел поднимать настроение команды «любимыми кушаньями русских»: кислыми щами и пирогами с рисом и рубленым мясом.
С тоской пытались бороться и при помощи алкоголя. Кружка пива, которое варили из специально купленного в Англии сусла, стакан пунша или немного рома к чаю поднимали настроение — особенно в близких к полюсу высоких широтах, где непрерывно шел мокрый снег, а горизонт затягивался «мрачностью». «После сего служители были столь веселы, как бы и в России в праздничные дни, невзирая, что находились в отдаленности от своей отчизны, в Южном ледовитом океане, среди туманов, во всегдашней почти пасмурности и снегах», — радовался Беллинсгаузен.
В восемь часов вечера объявляли отбой и раздавали койки-гамаки, которые матросы подвязывали на оборудованной под жилье орудийной палубе. На «Востоке» эта палуба размещалась над трюмом и была размером со школьный класс. В ней висели гамаки более ста мужчин. За два часа до сна, если погода позволяла, всех выгоняли на открытую верхнюю палубу. «В сии два часа обыкновенно занимались разными нашими простонародными увеселениями, как-то: пением, рассказыванием сказок, игрою в чехарду и плитку, скачкою через человека, плясками, а между тем в палубе очищался воздух».

Павел Михайлов. Две нерпы, между 1821 и 1824 годами
Государственный исторический музей

Павел Михайлов. Хохлатый пингвин, между 1821 и 1824 годами
Государственный исторический музей
Поскольку «чистота и опрятность много способствуют к сохранению здоровья, то я велел белье переменять два раза в неделю и строго за сим наблюдал», — пишет начальник экспедиции. Некоторые матросы, по народной привычке, старались тихо саботировать гигиенический режим, надевая грязную рубаху вместо выданной чистой, чтобы меньше стирать. Но «таковые поступки никогда не оставались без должного наказания».
По мере продвижения к югу главными проблемами становились сырость и холод. Уже 10 декабря 1819 года «теплота приметно уменьшилась», несмотря на наступление лета в южном полушарии. На обоих шлюпах задраили люки на верхние палубы, а в один из них вставили стекло — чтобы сохранить дневное освещение в жилой палубе. Также на ней установили чугунные печки и стали использовать в качестве батарей каленые пушечные ядра, но температура воздуха все равно порой не поднималась выше восьми градусов. Трижды в сутки приходилось убирать конденсат с обшивки, а просушка мокрой одежды стала настоящим испытанием.
Беллинсгаузен твердо настаивал на том, чтобы все члены экипажа мылись раз в две недели. Матросы от этой затеи были, опять же, не в восторге — чтобы сэкономить дрова, воду нагревали лишь до 15 градусов. Зато «чистота тела немало способствовала поддержанию здоровья служителей».
В высоких широтах всем выдали теплые вещи. Русскому простолюдину того времени такой комплект одежды показался бы настоящей роскошью. Но обойтись без всего этого в условиях антарктического лета — при постоянных штормовых ветрах, температуре, которая опускалась до –6, и почти непрекращающихся осадках — было бы невозможно.
Далее здесь
|
|
</> |

 Платные онкоцентры: когда время дороже денег, а качество лечения — вопрос жизни
Платные онкоцентры: когда время дороже денег, а качество лечения — вопрос жизни  Опять я...
Опять я... 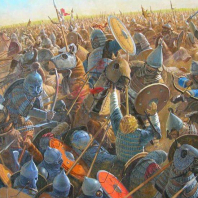 31 мая ● "День блондинок", "День дырок от бублика" и не только...
31 мая ● "День блондинок", "День дырок от бублика" и не только...  Сиань: вокруг да около, часть 7 (гора Хуашань)
Сиань: вокруг да около, часть 7 (гора Хуашань)  Субботнее фото для души
Субботнее фото для души  Жаркое в чугунке
Жаркое в чугунке  ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН  Lake Tahoe
Lake Tahoe  Не торопитесь. В жизни есть вещи поважнее, чем всё успеть.
Не торопитесь. В жизни есть вещи поважнее, чем всё успеть. 



