Ползя на сломанном крыле
 michyud — 22.12.2009
Ставлю вторую половину первой (киевской) части
michyud — 22.12.2009
Ставлю вторую половину первой (киевской) частиШкольный поэт
В школе я учился отвратительнее скверного, а уж ненавидел это занятие всеми, как говорится, жабрами души. Однако ж мне из страха перед будущим приходилось, как и прочим моим сверстникам, высиживать бабочек на уроках и спасться от раздирающей меня зевоты сочинением стишков. И вот это бессмысленное на первый взгляд занятие помогло мне обрести смысл жизни и будущую профессию. Сижу я как-то на уроке истории и придумываю такой вот стишок:
Французов рать рейтузова
Оттузила Кутузова.
Естественно, записываю его в тетрадку для лучшего запоминания, и тут мимо проходит наш историк, цапает рукой мою тетрадку, прочитывает свежую запись и багровеет, как знамя над рейхстагом.
– Ага, – говорит, – значит, таков твой зловещий взгляд на родную историю?
Я только плечами пожал – да уж, вот такой вот взгляд, юный и незамутненный.
А историк мне:
– Подобный, – говорит, – взгляд заслуживает педсовета. Придешь?
Я пообещал, что приду.
И вот, буквально на следуюшей неделе собрался педсовет. Я пришел, как и обещался, смотрю – а там уже весь цвет и запах нашей школы, включая учителя математики Карловыварова. Вот кому я обрадовался и даже подмигнул – мы с ним почти что родственные души. Он хоть и математик, тоже любит стихами изъясняться, правда, какими-то полубелыми, вроде:
Пирамиду назвали вы конусом,
Я за это вам ставлю три с минусом.
А поскольку я математику и на три с минусом никогда не знал, мне на него просто глупо было обижаться.
Дальше дело было так: историк зачитал мой стих, началось обсуждение. Литераторша наша говорит:
– По крайней мере, рифма присутствует. А про литературу ты можешь сочинить?
– Могу, – говорю и тут же придумываю:
Часовой воскликнул: «Стой!»
Так попался Лев Толстой.
Литераторша заявляет:
– Рифма присутствует, а смысла – ни копейки.
До чего меркантильная!
Тут от других учителей начали заказы поступать, и я по широте душевной никому не отказвал. Для физика такое сочинил:
Ньютон, склонясь над парапетом,
Придумал мобиле перпетум.
Физик говорит:
– Глупости, никогда Ньютон такой чепухой не занимался!
А я смастерил такую физиономию, будто мне одному о Ньютоне что-то очень личное известно и говорю:
– Кто знает, кто знает...
Больше всех на меня почему-то географ разозлился, хотя я для него одного стих с названием придумал:
«Признание туземки»
А Миклухо-Маклая
Не любить не могла я.
– При чем тут, – кричит географ, – это! У Миклухо, – кричит, – Маклая была совсем другая миссия!
Мне даже обидно стало за земляка.
– Что ж, – говорю, – Миклухо-Маклай не человек, что ли? Какого-то ананаса с клипсой в носу, выходит, можно полюбить, а отважного героя с дружественного континента нельзя?
Смотрю – географ совсем обезумел. Бегает по кабинету, головой о все четыре стенки стучит и всё твердит:
– Нельзя, нельзя, нельзя!
Вот это, я понимаю, любовь к своему предмету!
А вот кому мои стихи понравились, так это учителю биологии. Я для него такое сочинил:
Зачем простой улитке
Почтовые открытки?
– Правильно, – говорит биолог, – абсолютно незачем. Молодец, знаешь биологию.
И тут я ясно представил себе свое будущее, и когда закончил эту проклятую школу, стал выдающимся биологом с мировым именем и откопал такого динозавра, какого еще никто не закапывал. И даже стишок про него по старой памяти придумал:
Печальный это динозавр
Скончался по дороге в Гавр.
Сердобольная старушка
Иду я как-то по улице, и вдруг до того мне себя жалко сделалось – просто сил нет! Сел я прямо на тротуар и начал причитать:
– Ох, – говорю, – вы ручки, мои рученьки, ох вы ножки, мои ноженьки! Ох вы...
А тут мимо старушка какая-то проходит. Останавливается возле меня и говорит с сердобольностью:
– Что ж, внучек, плохо тебе, бедному?
– Ох, – говорю, – бабушка, плохо! Так, – говорю, – бабушка, плохо, что хоть ложись и помирай!
Старушка тоже вся заохала, заахала, оборачивается и говорит:
– Господа, мальчику плохо!
Смотрю – те прохожие, которые уже привыкли, чтоб их господами называли, стали нас как-то сторониться – наверно, подумали, будто мы милостыню напару собираем. А те, которые привыкли себя товарищами считать, наоборот – подходят к нам, глядят на нас злобно и говорят:
– А гори он огнем, ваш господский мальчик!
И тоже уходят. Остались мы снова со старушкой вдвоем. Я всё причитаю, старушка за мной.
– Что ж, – говорит, – внучек, болят твои рученьки?
– Ох, – говорю, – нет, бабушка, не болят.
Она удивляется.
– А ноженьки? – спрашивает.
– Ох, – говорю, – и ноженьки не болят.
– А что же? – спрашивает.
– Ох, – говорю, – плохо мне.
Смотрю – старушка белениться начала.
– Что ж ты, – говорит, – иродов конь, голову старым людям морочишь?
И как хряснет меня палочкой своей по шее! И пошла.
– Ох, – кричу ей вдогонку, – шея моя, шеенька! Болит, бабушка, шеенька моя, ох болит!
Тут старушка возвращается, а в каждом глазу у ней яду с полкило.
– А голова, – спрашивает, – не болит?
– Нет, – отвечаю, – голова, слава Богу и всем его сподвижникам, не болит.
– Ну, – говорит старушка, – сейчас будет.
И хрясь меня палочкой по голове! Я аж закричал от боли и неожиданности.
– Что ж вы, – говорю, – бабушка, делаете? Где же ваша хваленая совесть?
А старушка совсем разошлась. Скачет, прыгает, лупит меня палочкой по всему организму и заливается счастливым смехом.
– Ох, – кричу, – болят мои рученьки, болят мои ноженьки, болят мои шейка с головушкой! Уймись, дура старая – у меня уже всё болит!
– Ну, то-то ж, – говорит старушка, успокаиваясь. – Спасибо тебе, внучек, давно мне так весело не было. Пойдем теперь ко мне, чайку похлебаем.
Встаю, чуть не плача, говорю ей:
– Свиньи пусть с вами чаек хлебают. А я вам отныне – хуже постороннего.
И бросился от нее бежать. Один раз только оглянулся, вижу – старушка моя еще витрину аптечную раскокола и постового по фуражке сандальнула. А когда он ее за это в отделение потащил, распевать начала:
Синеглазый мой Васек
На посту меня засек.
По дороге в каталажку
Ущипнул меня за ляжку.
И на душе у меня вдруг хорошо до безумия сделалось. Что ни говори – приятно кому-нибудь подарить радость. Хотя бы на день.
Ноги
– Где твои ноги?
– Ась?
– Где твои ноги, я спрашиваю?
– Ой, папочка, только не бей меня ремнем!
– Какой папочка, я – твоя жена!
В самом деле, как быстро я вырос!
– Где твои ноги?
Правда, где мои ноги? Какой я молодец, что дошел без них!
– Подлец ты, а не молодец.
Ну ее... Не до нее. Где же вы, мои ноги? Еще вчера они жаловались на дурное обращение, причитали, что устали и износились, а я только смеялся в ответ и нарочно шлепал по грязи, подставлял под колеса грузовиков, футбольнул здоровенный кирпич... Теперь они обиделись и ушли. Не удивлюсь, если он ушли к моему соседу Федотову – тот уж наверняка натянет на них серые штаны на ватной подкладке, чтобы они не простыли и не расчихались. Или к инвалиду Фоме Гриневу – он так мечтает о ногах! Каждый день он пристегивает свои культяпки к тележке и, стуча колодками, выкатывает на прогулку. С ногами он будет смотреться просто шикарно!
– Иди на кухню, разогрей себе суп, душа болвана.
Иду на кухню разогревать суп. Жена напряженно глядит мне вслед.
– Хотела бы я знать, – говорит она вдруг, – как это ты ходишь без ног?
Как хожу? Плохо хожу. Безрадостно, по инерции.
– Может, в таком случае, сходишь за хлебом?
А вот это уж дудки, без ног не пойду, мы теперь свои права знаем!
Жена одевается и уходит за хлебом сама. Еще хоть на четверть часа я освобожден от созерцания ее умной, всегда и во всем правой физиономии. Случись эта история с ногами лет пять назад – и я был бы свободен от этого всю жизнь. А, может, ноги – это только начало? Может, скоро я по частям исчезну весь? Остнется только родинка на правой ягодице, столь любимая мною с детства. А, может, и она не останется. В замке завозился ключ – возвратилась жена. Вот она открывает дверь, извлекает из сумки купленный хлеб, заходит на кухню, где в кастрюльке выкипает совершенно забытый мною суп...
– Ты где?
Вот кикимора, смотрит на меня в упор и не видит. Неужели я и вправду весь исчез вместе с пресловутой родинкой?
– Так... сбежал, сукин кот. Ну, только вернись домой...
А вот это уж выкусите, этого вы уж от меня как раз и не дождетесь, дорогая супружница! Вылетаю, выбегаю, выхожу – теперь уж всё равно – из квартиры и – вниз, вниз, вниз! У подъезда сидит на скамейке пожилая соседка Смирнова с ненаглядной собакой Цуцей и ковыряет в зубах толстой спичкой. Окликаю:
– Привет, пенсия!
Смирнова недоуменно глазеет по сторонам, а Цуца заливается визгливым лаем. Мерзкая животинка, дать бы ей по носу – да нечем.
– Ауф видерзеен, счастливая пара! – и дальше, дальше, вперед, на Кудыкину гору.
Тормознуть такси? Скромнее, товарищ. Вас хоть и нет, но – скромнее. Залажу в автобус, подбираюсь к водителю.
– Дай порулить, старый маргарин.
Тот озирается и глядит сквозь меня, раззинув рот.
– Закрой, – говорю ему, – рот и смотри на дорогу. На твоей ответственности жизнь сорока пассажиров.
Он едва не врезается в телеграфный солб и, вытерев пот, едет дальше.
Конечная, метро. В будке – крашенная в блондинку мымра рвет нововведенные тридцатикопеечнве талоны.
– А у меня чего талон не спрашиваете? На службе не должно быть любимчиков.
Ах, ах, захлопала синюшными веками.
– Это кто тут такой умный?
– Это я тут такой умный.
Заскакиваю в вагон, еду. На следующей станции заходит жирный наглолицый мальчик с мамой и садится прямо на меня. Я ему гаркаю в ухо и он вскакивает, как ошпареный.
– Ай!
– Что ж ты, мальчик, такая свинья? Хочешь сесть – скажи, я тебе сам уступлю место.
Мальчик испуганно жмется к маме. Получил, жирнюк?
Станция «Вокзальная». Выхожу, поднимаюсь на эскалаторе вверх. Толпы людей – откуда вас столько, черти? Вам-то зачем на Кудыкину гору понадобилось? Езжайте домой, ешьте разогретый суп...
А вот и гнусавое объявление по вокзалу:
– Поезд на Кудыкину гору отбывает в ночную пору.
Буду ждать! Втиснулся на скамеечку между негром и грузином, задремал. Просыпаюсь – дело к ночи. И снова гнусавое объявление:
– Поезд на Кудыкину гору отправляется очень скоро.
Из дикторской будки выходит молодая девушка с каштановыми волосами и прищепкой на носу. Подскакиваю к ней и спрашиваю:
– Зачем на такой чудный нос – и прищепку?
– А затем, – говорит, – что стыжусь свой профессии и стараюсь, чтоб голос мой не узнали.
– Постойте, – говорю вдруг, – вы, что ж, меня видите?
– Конечно, – говорит, – вижу. Я ведь, знаете, не слепая.
Гляжу на себя – вот он я весь, снова появился, включая ноги, а, может, и родинку на правой ягодице – сейчас смотреть времени нет. Так что заказан мне теперь путь на Кудыкину гору, только и осталось, что домой возвращаться.
Вернулся, а дома жена ждет.
– Ну, – говорит, – и где ты шлендрал?
– Ноги, – говорю, – искал. Вот, гляди, нашел.
Поглядела она на мои ноги.
– Ну-ну, – говорит. – Суп твой выкипел, есть нечего.
– И не надо, – говорю. – Я есть не хочу, я курить хочу.
– В коридоре, – говорит она.
Вышел я в коридор, поднялся к мусоропроводу, а там мой сосед Федотов стоит в серых штанах на ватной подкладке и тоже курит. Кивнул я ему, говорю:
– Живешь?
– Живу, – отвечает, – по мере сил.
Постояли мы с ним, покурили и спать разошлись. Надо ж иногда и ногам покой давать.?
|
|
</> |

 Гражданство Румынии — единственный способ сбежать из России
Гражданство Румынии — единственный способ сбежать из России  Барнаул. Городская общедоступная библиотека
Барнаул. Городская общедоступная библиотека  О вишне... просто фото
О вишне... просто фото  Лучший отдых на износ
Лучший отдых на износ  Куда подевались 3D фильмы?
Куда подевались 3D фильмы?  Подлодка
Подлодка 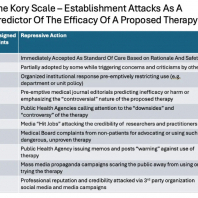 Самое мощное противораковое средство, о котором вы никогда не слышали. ч.1
Самое мощное противораковое средство, о котором вы никогда не слышали. ч.1 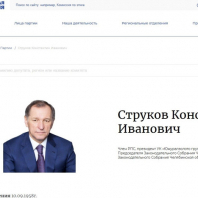 Раскулачили видного "единоросса"
Раскулачили видного "единоросса"  Еврейский анекдот по пятницам — от израильского бизнес-консультанта
Еврейский анекдот по пятницам — от израильского бизнес-консультанта 



