Подшивалов Владимир Феофилович. Из записок капитана 2
 jlm_taurus — 28.03.2023
Ночью возобновился дождь, пришлось прекратить погрузку и закрыть
трюмы. Однако никаких документов на перевозку этого груза порт
так и не предоставил, ссылаясь на то, что к полудню все необходимые
документы будут доставлены на борт судна. К полудню дождь
прекратился, однако сертификаты на перевозку железорудного
концентрата так и не были предоставлены. Для нас так и осталось
секретом, при какой влажности этого груза возможна перевозка морем.
Тем более что совершенно неизвестно фактическое состояние груза на
причале под открытым небом во время осадков.
jlm_taurus — 28.03.2023
Ночью возобновился дождь, пришлось прекратить погрузку и закрыть
трюмы. Однако никаких документов на перевозку этого груза порт
так и не предоставил, ссылаясь на то, что к полудню все необходимые
документы будут доставлены на борт судна. К полудню дождь
прекратился, однако сертификаты на перевозку железорудного
концентрата так и не были предоставлены. Для нас так и осталось
секретом, при какой влажности этого груза возможна перевозка морем.
Тем более что совершенно неизвестно фактическое состояние груза на
причале под открытым небом во время осадков.В 18:00 на борт прибыли грузчики. Дежурный диспетчер порта еще раз заверил, что все необходимые документы будут обязательно предоставлены и что их в настоящее время готовят в лаборатории порта. Тем не менее я предупредил, что судно не отойдет от причала до тех пор, пока все документы не будут на борту судна. Кстати, диспетчер сказал, как бы между прочим, что в порт прибыл секретарь по транспорту краснодарского крайкома КПСС специально по простоям судов в порту под погрузкой. Добавив при этом, что он принимает очень жесткие меры. Я понял, что мне это было сказано специально для запугивания. Подобного опыта мы имеем достаточно.
Для нас безопасность мореплавания превыше всего, а эти разговоры о крутых мерах разных представителей должны остаться пустыми разговорами. Поверхность причала и груза на причале были совершенно сухие, по настоянию порта пришлось разрешить продолжение грузовых операций. К утру весь груз был на борту, однако сертификаты не были предоставлены. По этой причине пришлось отказаться подписать коносаменты до получения всех необходимых документов. Вот тут и началась свистопляска со всевозможными угрозами. Стало понятно, что документы на железорудный концентрат в порту отсутствовали.
К вечеру прибыл на борт капитан-наставник Черноморского государственного морского пароходства (ЧГМП) капитан Клементьев Георгий Георгиевич, бывший декан судоводительского факультета ВВМУ, где он также преподавал астрономию и навигацию. Ознакомившись с фактическим положением дел на судне, Георгий Георгиевич поспешил в контору порта для принятия необходимых мероприятий. На утро, часов в 10:00, капитан Клементьев прибыл на пароход и еще раз удостоверился в необходимости предоставления документов и производства штивочных работ конусов груза по бортам судна, т.е. в подпалубное пространство для исключения смещения груза при бортовой качке.
После короткого согласования всех наших требований, мы с Клементьевым прошли в контору порта Туапсе в кабинет начальник порта товарища К.А. Шаповалова, где нас уже ждал начальник порта, главный диспетчер порта, начальник юридического отдела порта, начальник причала и еще несколько представителей порта и не только порта. Вот тут то и началась трагикомедия.
Бразды правления на этом совещании взял в свои руки начальник порта Туапсе Шаповалов. Выслушав мои доводы о производстве крайне необходимых работ и предоставления всех документов, а также поддержку капитана-наставника ЧГМП Клементьева, начальник порта Шаповалов начал говорить, что порт отгрузил уже 3 миллионов железорудного концентрата. Каких-либо претензий или подобных требований никто не предъявлял. И здесь же приказал главному диспетчеру написать сертификат на годность груза в таком состоянии к перевозке морем с указанием допустимой и фактической влажности концентрата.
Главный диспетчер взял бланк сертификата и начал заполнять необходимые графы. Но, вероятно, до него дошла абсурдность такого действа. Он отодвинул бланк сертификата, положив на него свой шариковый карандаш. Немного подумав, заявил: «У меня есть семья, дети и я не буду писать и подписывать подобную бумагу». Пришлось мне вмешаться в это и сказать: «Вы думаете, что экипаж п/х «Магадан» не имеет детей и семьи и вообще команда судна это нелюди, так что ли?» Подобные разговоры сразу прекратились, беседа приняла более конструктивный характер.
Одновременно Шаповалов сказал: «Пожалуйста, пройдите на другое судно, стоящее под погрузкой такого же груза. Капитан этого судна не требует штивки конусных гор в подпалубное пространство. Подобные грузовые работы практикуются нами уже длительное время. Тем более, что не имеем какой-либо информации об авариях или аварийных случаях с судами с подобным нашим грузом».
Вынужден был ответить:«Мне неизвестен порт назначения этого судна и его конструктивные особенности. Я не намерен вмешиваться в чужие действия. Для меня безопасность п/х «Магадан» и экипажа превыше всего, и я не могу подвергать жизнь людей и государственное имущество явной гибели. Поэтому прошу выполнить наши требования». Начальник порта Шаповалов сказал, что подошло еще одно судно под погрузку на этом же причале. Он согласен с доводами об обязательной штивке груза, и это будет сделано на торцевом причале пирса. В ходе дискуссии выяснилось, что никаких сертификатов на погруженный груз в порту нет, да их и не было никогда в наличии. И вести переговоры о предоставлении копий этих сертификатов практически не имело смысла.
Осталось единственное действие просушить груз методом перелопачивания, исключая попадания дождя на груз в трюмах судна. Начальник порта Туапсе Шаповалов заверил, что выделит два портальных крана с грейферами для перелопачивания груза с целью просушки оного во время стоянки на торцевом причале. Также была получена уже лично нами из других источников информация о методах обогащения железорудного концентрата методом флотации на обогатительном комбинате. Обогащенный концентрат сливается в открытые полувагоны и во время доставки в порт при усиленной вибрации и тряски полувагонов в пути вода уходит через щели бортов полувагонов. После выгрузки на открытый причал дождевая вода впитывается коллоидной пленкой на железорудном концентрате.
После погрузки на пароход, во время вибрации в пути, вода высвобождается и разжижает груз до состояния полужидкого теста, что приводит к смещению груза при качании судна на волнах и трагическому последствию. Руководство порта Туапсе обязано знать об этом, а не вводить в заблуждение администрацию судов, прикидываясь при этом полудурками. К тому же в порту есть лаборатория, где всегда могут определить влажность и его пригодность к перевозке морем.
Наше судно переставили с грузового причала на торцевой причал пирса. Предоставили два портальных крана специально для просушки железорудного концентрата методом перелопачивания. Капитан-наставник ЧГМП капитан Клементьев, попрощавшись, выехал к месту своей службы в знаменитый город Одессу. По моему мнению, он остался доволен требовательностью своего давнего ученика.
Сутки с лишним занимались перелопачиванием груза в трюмах, доведя до относительно хорошей кондиции. Но возникла проблема с работой портального крана в трюме №1: вылета стрелы крана было недостаточно изза отсутствия подкрановых путей в этой части торцевого причала. Передвинуться на 5 метров назад не позволял корпус судна, стоявший под погрузкой концентрата. Поэтому появилась вероятность простоя судна до двух-трех суток. Чтобы избежать дополнительного простоя в ожидании окончания грузовых работ на судне, стоявшего на грузовом причале, руководство порта просило проверить состояние груза в трюме №1.
Возможно, состояние его не такое, как было в остальных трюмах. Комиссия в составе представителей порта, портнадзора и судна осмотрели груз в трюме №1 и пришли к выводу, что его состояние не внушает опасения разжижения, тем более что трюм имел форму клина изза подзоров, хотя портовая лаборатория не смогла определить настоящую влажность груза по причине выхода из строя каких-то особых приборов. В общем, снова лапша на уши! Скрепя сердце, согласился с доводами комиссии.
А зря, что пошел на поводу у портовиков. К тому же не была получена поддержка от ДВГМП. Закрыв люки трюмов по-походному, снялись в рейс. Покинув порт Туапсе, последовали в порт Поти для пополнения бункерного угля. С приходом в Поти судно поставлено к причалу угольного терминала.
Старший механик Николай Флегонтович обнаружил, что грейферы на кране в 5 тонн, а не 7, как утверждали портовики. Таким образом, на каждом подъеме не догружали 2 тонны бункера. При проверке взвешиванием оказалось, что в пятитонном грейфере всего 4 200 килограмм. Вот такое явное надувательство обнаружили в грузинском порту Поти. Согласовав порядок погрузки бункера и метод взвешивания, продолжили бункеровку.
На судно прошел мой давний друг (очень хорошо знакомый) по порту Петропавловск Камчатский, где он работал в лоцманской службе, Яков Хухашвили. Он рассказал, что работает в Грузинском государственном морском пароходстве (ГГМП). Попутно посвятил нас в немногие потийские обычаи. Яков спросил: «Никому из экипажа не набивали набойки на новые ботинки?» Я со смехом ответил: «Пока нет». Буквально через минуту зашел наш начальник рации В.В. Козуб и, смеясь, рассказал, как ему «пришпандорили» на новые итальянские ботинки четыре металлические набойки.
Хотел отказаться платить за такую наглость, да тут же волосатый, давно небритый сапожник закричал: «Милиция, грабят бедного сапожника!» Стоявший невдалеке милиционер довольно угрожающего вида пошел в сторону сапожника. Вот здесь то и сработал один из методов Остапа Бендера отъема денег у населения. Козуб заплатил за каждую набойку по 10 рублей, итого 40 рублей при красной цене за работу всего в 5 рублей. Хухашвили сказал, что здесь это в порядке вещей по отношению к приезжему люду.
Проверили состояние груза во всех трюмах и особенно в трюме №1. Изменений не наблюдали. Приняв полный бункер, п/х «Магадан» снялся в рейс на порт Эмден, ФРГ. С выходом из Поти обнаружили, что полученный бункерный уголь очень даже дрянного качества, о чем сообщили в ДВГМП. Котельных кочегаров это очень огорчило. Это означало, что тяжелой работы будет много, а толку мало. К утру северовосточный ветер усилился до 17 м/сек. Появилась попутная волна свыше 3 метров высотой. Волна начала заходить на палубу судна. Пополудни стали замечать, что пароход испытывает неравномерную качку. На правый борт крен достигал до 10°, а на левый борт до 15°.
Уменьшили скорость судна до 8 узлов. Произвели проверку состояния груза в трюмах. Оказалось, что во всех трюмах все в порядке, за исключением трюма №1, где обнаружена вода на поверхности груза. Взяли воду на анализ. Оказалось, что вода пресная. Уже немного легче: хорошо, что не забортная. После стоянки в Поти у причала с торчащими штырями все могло быть.
Мобилизовав всех свободных от вахт, приступили к удалению воды ведрами с поверхности груза трюма №1 через открытый лаз. Конечно, провели освещение люстрами. Выбрав воду, поняли, что произошло разжижение груза. Прорыли несколько колодцев глубиной около метра. Безуспешно. Колодцы буквально через полчаса заполнялись тестообразной массой груза, причем на дне колодца не появлялось ни капли воды. Вся масса груза перемещалась от борта к борту в такт качаниям судна с устойчивой тенденцией увеличения крена на левый борт. Переданы РДО с грифом «аварийная» в Одессу Кирису, Туапсе Шаповалову и во Владивосток Лютикову с подробным описанием произошедшего и принятыми мерами. Тем не менее, стало понятно, что для приведения груза в нормальное состояние, пригодное для перевозки морем, было крайне необходимо высушить его. Другая возможность практически отсутствовала. Тесто есть тесто!
Увеличили скорость судна до максимальной, чтобы как можно быстрее достичь пролива Босфор для укрытия от волны и ветра. Другого выхода из создавшегося положения не предвиделось, для нашего судна по крайней мере. Утром следующего дня волнение увеличилось. Получили РДО от ЧЗМ Кирис, в котором он настоятельно рекомендовал лечь на курс лагом к волне. Для меня не ясно, в своем ли уме он мог подписать такой текст в РДО? Или это новый метод в современной практике? В нашем положении, да при таком грузе, лечь на курс лагом к волне значит подвергнуть величайшему риску смещения груза во всех трюмах. При этом результат мог быть только плачевный. Поэтому рекомендации одесского начальника морской инспекции ЧГМП просто не были приняты к исполнению.
Учитывая, что качания судна на оба борта не изменились, продолжали следовать той же скоростью и курсом. При таком положении судно стало больше принимать забортной воды на палубы.
Спокойно, без проблем, прошли пролив Босфор. Сдали лоцмана на подошедший лоцманский катер уже в Мраморном море и последовали самостоятельно Мраморным морем и проливом Дарданеллы в Эгейское море. Утром следующего дня Эгейское море встретило нас солнечной погодой. Приступили к открытию люка трюма №1. Состояние груза было прежним: значительно смещен на левый борт, чем и объяснялся постоянный крен на левый борт в 5°. Был объявлен по судну аврал для выравнивания крена и просушки груза. Проверили состояние груза в остальных трюмах. Каких-либо проблем не было обнаружено, но на всякий случай открыли все лазы для проветривания. К концу рабочего дня трюм №1 и лазы закрыли попоходному, так же закрепили грузовые стрелы. Из всего случившегося был сделан твердый неукоснительный вывод, что верить никому нельзя, невзирая на ранги и всякие честные обещания. Кстати, вспомнилась шуточная песенка: «Вот и верь после этого людям».
Старший механик, поднявшись на ходовой мостик, сообщил пренеприятную весть о том, что бункерный уголь расходуется до 55 тонн в сутки вместо 40 тонн. Качество бункерного угля было отвратительное, о чем сообщалось в ДВГМП по выходу из порта Поти, поэтому необходимо запросить бункеровку в Гибралтаре.
Утром следующего дня начали бункеровку, причем стармех Литвинцев по внешнему виду угля определил, что это бункерный уголь очень хорошего качества, не чета грузинскому. Но все же решил опробовать его в наших котлах. Буквально через полчаса получили отличный результат: давление пара в котлах стало подниматься с первых же лопат угля, заброшенных в топки котлов. Бригада кочегаров (котельных операторов) воспряла духом. Это действительно бункерный уголь типа «кардифф». Есть чему радоваться. Да и расход бункера, вероятно, будет значительно меньше, чем прежде.
...Последовали в порт Эмден. Ошвартовались к причалу порта схода. Отрадно то, что не было никаких нудных ожиданий, сразу же приступили к выгрузке зловредного груза. Причем оформление прихода иммиграционными и таможенными властями производилось уже во время грузовых операций.
Эмден небольшой городок, но там много металлургических заводов. Вероятно, каждый такой завод имел свои населенные пункты, у нас называемые моногородками. Выгрузка производилась без проблем до тех пор, пока не приступили к грузовым операциям в трюме №1. Как всегда, открыли трюм, т.е. приготовили к выгрузке. Портальный кран опустил грейфер на груз концентрата и попытался захватить минимум 5 тонн, но его постигла неудача. В грейфере оказалось всего несколько килограмм железорудного концентрата. Крановщик решил резко опустить грейфер на груз, результат был тот же. Несколько попыток бросить грейфер с большой высоты удачи не принесли.
Оказалось, что после разжижения и просушки груз концентрата забетонировался, то есть в трюме оказался монолит руды. Единственным выходом из создавшейся ситуации была изнурительная работа отбойными молотками для размельчения концентрата. Как бы то ни было, весь груз до килограмма был выгружен на берег.
Получили РДО из Владивостока: «В заливе Кадис 15 декабря 1963 года погиб т/х «Умань» ЧГМП во время штормовой погоды. Спасено только 14 членов экипажа иностранными судами, находящимися в этом районе. 32 погибли. Груз железорудный концентрат, порт погрузки Новороссийск». Для нас это был траур по погибшим морякам. Мы не знали подробности, но были уверенны, что это произошло изза смещения груза концентрата.
***
...Несмотря на внешнее дружелюбие финских властей, на борту постоянно находился дежурный представитель финской таможни. Из беседы с таможенным офицером выяснилось, что таможня пыталась контролировать вынос с судна каких либо товаров и особенно спиртных изделий. Еще многое он рассказал об обычаях и случаях в столице Финляндии. Подошло 7 января 1964 года православный праздник Рождества Христова, который является государственным праздником в этой стране, то есть нерабочим днем. Работать в этот день страшный грех. Вот уже третий праздник за какие то две недели, не считая суббот и воскресений. После аврала экипаж отдохнул на славу.
Финляндия страна северная. Вот что удивительно: среди заснеженного города и очищенных от снега улиц, уж больно много продается яблок, цитрусовых фруктов, бананов и других тропических лакомств. И что характерно, все дешевле, чем у нас во Владивостоке или даже в Москве. Есть чему удивляться. Наше краевое руководство всегда говорит: «Дорого». Хотя наш город расположен на двадцать градусов южнее по широте земной.
А здесь севернее, и почему то недорого. Причем, зарплата у соответствующих профессий значительно выше в несколько раз чем у нас в крае. В общем: «Думай, Федя, думай». Члены экипажа, побывав в городе, осмотрев всевозможные достопримечательности, особенно много говорили о памятнике Маннергейму, установленному на площади перед парламентом страны. Все еще помнят битву на «линии Маннергейма».
Конечно, посетили магазины и, как говорится, отоварились от души. Это с нашей то инвалютной копеечной зарплатой. Вот он, загнивающий, зловещий, нашими бонзами проклинаемый на бумаге, капитализм. Ничего общего с тем, что я видел здесь, в Хельсинки, в 1945 году во время Второй мировой войны. Это был голодный замерзающий город. Нас в увольнение не отпускали, хотя мы здесь находились около двух недель. А сейчас это ухоженный город, уважающий своих правителей, о чем мы были наслышаны от разных слоев населения. Ругали какие то законы (вроде «сухого закона»), но никто не сказал злого слова о правителях. Странно, не правда ли? Хотя мы старались избегать бесед на политические темы.
***
...Получили РДО ДВГМП: «Срочно подготовить документацию, всю переписку, относящуюся к погрузке железорудного концентрата в порту Туапсе, и о произошедшем разжижении и смещении груза во время рейса. Одновременно Министерство морского флота просит вас изложить свое заключение о хранении, погрузке, перевозке железорудного концентрата морем. Всю переписку, полученную ДВГМП из порта Туапсе, и вашу высылаем в Ригу. Всю документацию срочно вышлите на адрес ММФ СССР. Подписал Голумбиевский».
Голумбиевский дополнил РДО своим мнением:«Ваша работа в порту Туапсе показала класс квалификации Дальневосточных капитанов выше, чем у работников Туапсе и управленцев Черноморского пароходства вместе взятых». Также получена полная информация о гибели т/х «Умань» ЧГМП. Теплоход «Умань» углерудовоз производил погрузку
железорудного концентрата в порту Новороссийск в уже замерзшем состоянии. По указанию управления ЧГМП, производя погрузку, сразу же сделали в грузе колодцы, хотя мы своевременно информировали ЧГМП, что это безрезультатная работа.
Второй офицер т/х «Умань» категорически отказался идти в рейс с таким грузом в таком состоянии, за что был уволен из ЧГМП. Для обеспечения безопасности в рейсе был направлен капитан наставник Г.Г. Клементьев. Погрузка была окончена, и т/х «Умань» вышел в рейс с прорытыми колодцами в грузе и капитаном наставником на борту.
Судно проследовало благополучно в Черное море, пролив Босфор, пролив Дарданеллы, Эгейское море, Средиземное море и зашло в порт Гибралтар для пополнения бункера, пресной воды и продовольствия.
Но, видно, не совсем внимательно отнеслись к состоянию груза железорудного концентрата. После суточной стоянки в Гибралтаре т/х «Умань» снялся в рейс на германские порты. Пройдя пролив Гибралтар, уже в заливе Кадис, судно подверглось штормовой погоде. Началось смещение груза. В считанные минуты, а, может, и секунды, судно перевернулось и ушло под штормовые воды Кадисского залива. Иностранными судами были выловлены из воды только те, кто находился на открытых палубах судна.
Остальные погибли, в том числе и капитан наставник Г.Г. Клементьев, прекрасной души человек. Царство ему небесное. Да найдет его душа упокоение на небесах, как и души всех погибших моряков т/х «Умань». Вот к чему приводит назначение по блату или еще по каким то непонятным причинам на руководящие должности таких полудурков, как управленцы Новороссийского морского порта, где не последнюю роль сыграл начальник порта, получивший совет, наверняка, от Шаповалова из Туапсе. Об их компетентности четко говорят аварии, произошедшие по их прямой вине. Такова существующая система.
Кстати, второго офицера т/х «Умань» управление ЧГМП убедительно просило вернуться на работу под руководящую руку управленцев, дабы избавиться от одного из опаснейших свидетелей этого преступления. Он дал согласие на возвращение и повышение в должности в этом пароходстве. А ведь был уволен с позором и без выходного пособия, как дезертир и беглец, виза была закрыта «навсегда». Улизнул от трудностей, переживаемых страной, строящей развитой социализм.
Вся переписка, полученная управлением ДВГМП от Шаповалова, была направлена в Ригу на мой адрес. Я был поражен бесстыдством, клеветой начальника порта Туапсе Шаповалова, уподобившегося мелкому пакостнику. Его необходимо было судить за его преступные действия на своем, вероятно, по блату приобретенном посту начальника порта. Все документы (переписка и мое заключение) были направлены почтой в адрес Министерства морского флота СССР в Москву. И здесь сработало покровительство.
Все виновники гибели людей и т/х «Умань» отделались конфиденциальным наказанием. Мне же сообщили, что почту с документами получили в 12:00 дня, а великая коллегия Министерства по этому вопросу закончилась в 11:30 того же дня. В связи с опозданием получения документов по почте коллегия решила не возвращаться к этому вопросу. Себе в ущерб, а так «умыли руки, как Понтий Пилат». И делу конец, или, как говорят, концы в воду.
***
...Согласно приказу начальника ДВГМП 20 февраля 1965 года принял командование п/х «Советский Союз», дела у капитана Б.Н. Гришина в продолжение трех рабочих дней. Таковы были правила. П/х «Советский Союз» («Albert Ballin») был спущен на воду 16 декабря 1922 года. Заводской № 403. Судостроительная верфь завода «Blohm und Voss» Hamburg, Веймарская республика для Hamburg Amerika Line, город Гамбург.
П/х «Советский Союз» вышел из акватории «Дальзавод» 25 марта 1965 года на ходовые испытания в заливе Петр Великий под моим командованием и с инспекторами регистра СССР. С выходом в Уссурийский залив приступили к ходовым испытаниям турбин и паровых котлов. Погодные условия были идеальными: северный ветер 2 балла, волнение 1 балл, облачность 2 балла, туман отсутствовал полностью. При скорости до 17 узлов никакого волнообразования от хода судна не было настолько практически идеальная обтекаемость корпуса судна. И только при достижении скорости 17 узлов образовались кормовые усы, то есть кормовая волна от хода судна. Так называемые носовые усы (волна) образовались при скорости 19 узлов. Максимальная скорость на этих ходовых испытаниях была достигнута в 21 узел, причем на форштевне образовался довольнотаки
высокий бурун.
Основная проблема, ограничивающая скорость, заключалась в том, что много трубок в котлах было заглушено изза отсутствия особого металла для изготовления этих труб. А заказать трубки за бугром то ли денег не было, то ли Внешторг препятствовал, стараясь сэкономить валюту. Одному Богу известна настоящая причина. Хотя инспекторы регистра СССР признали состояние судна пригодным к эксплуатации в основном с оценкой хорошо. С окончанием ходовых испытаний, поздно вечером, турбоход вошел в пролив Босфор Восточный, встал на якорь правее островов Шкота напротив причала №4. Утром следующего дня «Советский Союз» был ошвартован кормой к при
чалу №30 с отдачей двух якорей с девятью смычками якорного каната в качестве гостиницы для проживания делегатов съезда работников лесного хозяйства Дальнего Востока.
Обслуживание делегатов съезда лесников экипажем турбохода «Советский Союз» шло своим чередом, со всеми издержками для людей, не привыкших сдерживать свои эмоции на просторах дальневосточной тайги. На судне поддерживался полнейший порядок. Все эксцессы и выливающиеся эмоции происходили на причале №30 в десяти метрах от судна, что приветствовалось руководством лесной промышленности края. Все разборки достались дежурному взводу городской милиции. Экипаж же наблюдал с высоты борта своего судна за происходящим на берегу за десятиметровой нейтральной полосой, которую все делегаты неукоснительно соблюдали.
С окончанием очередного подъема лесного хозяйства судно находилось в ожидании вхождения в расписание пассажирской линии Владивосток ПетропавловскКамчатский, получая снабжение и продовольствие.
В один прекрасный день на судно прибыла выездная комиссия во главе с председателем профсоюзного комитета плавсостава ДВГМП товарищем Д.Г. Фроловым по вопросу присвоения звания «экипаж коммунистического труда» команде п/х «Советский Союз» по якобы письменной просьбе какихто общественных организаций. Общее собрание экипажа происходило в столовой команды.
Свободные от вахт и работ 475 человек приступили к рассмотрению этого очень важного и не совсем понятного вопроса. С докладом выступил председатель комитета плавсостава товарищ Фролов. В прениях выступали: секретарь партийной организации, председатель судового профкомитета, секретарь ВЛКСМ судна, ряд почти штатных ораторов, в том числе старшая номерная пассажирского отделения второго класса Е.К. Зайнулина,татарка по национальности. У нее была особенность: она не выговаривала звук «Б», а произносила звук «П». В конце своего выступления она сказала: «Мы боролись, боролись и наконец-то добились». Зал разразился хохотом. Сидящие в президиуме не оченьто внимательно вслушивались в речи выступавших, поэтому смех зала был неожиданностью.
Председательствующий объявил о порядке проверки документаций по департаментам судна и общественным организациям, несмотря на то, что п/х «Советский Союз» являлся кузницей кадров, где вновь принятому на работу в ДВГМП было необходимо проработать не меньше одного года, чтобы получить визу и как можно быстрее уйти в заграничное плаванье. Оступившиеся должны были продолжать работать здесь или уходить с судна.
Все должно было быть отражено в книге приказов по судну, а таких приказов за год работы была уйма и маленькая тележка. Через несколько часов скрупулезная работа была окончена, а результаты сконцентрированы в протоколе председателя комитета плавсостава товарища Д.Г. Фролова, где со всей серьезностью было сказано: «По результатам проверки не совсем хорошей работы экипажа просьбе о присвоении звания «экипаж коммунистического труда» отказать».
Фролов видел, какой оборот принимает это действо. Я был вынужден спросить, какая судовая организация подписала просьбу о присвоении высокого звания. Фролов не смог ответить. Этот же вопрос был задан каждому руководителю общественных организаций: профкому, комиссару, секретарю парткома судна, секретарю ВЛКСМ судна. Никто ответить не смог. Поэтому я обратился к председателю комитета плавсостава Фролову: «Для того, чтобы отказывать в просьбе, необходимо, чтобы эта просьба была. В нашем случае ваш отказ теряет смысл, потому как нет просьбы. В чем заключается ваш отказ?»
Выездная сессия плавсостава постановила, что была проведена очередная проверка работы профсоюза на судне без опубликования результатов в городской прессе. Для нас это было важно. А собака, как оказалось, была зарыта в поездке одного глубокоуважаемого работника ДВГМП на ВДНХ (Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства) в Москве, где он показал цветные снимки т/х «Советский Союз» и выразил желание вручить снимки ВДНХ для показа такого огромного судна, да еще с таким громким названием. Представители ВДНХ ответили, что для этого необходимо, чтобы на снимках были люди, творцы своего труда, и результаты высоких достижений. Далее была организована выездная сессия комитета плавсостава ДВМП под руководством председателя Фролова.
В первом же рейсе я познал, что такое быть капитаном пассажирского лайнера на Петропавловской линии. У меня появилось очень много знакомых, которых до сего момента никогда не видел и не слышал. Сразу же понял, что моя личность ни при чем. Все заключается в должности капитана и возможности заполучить место в каютах капитанского резерва. А это каюты люкс, первый класс, второй класс. Была даже одна восьмиместная каюта третьего класса. Без разрешения капитана билетные кассы морвокзала не имели права продавать места в этих каютах почти до самого отхода в рейс. Все это повторялось каждые две недели соответственно расписанию прихода в Петропавловск многие месяцы.
Выгрузив в порту Петропавловск весь груз, погрузив 1057 тонн всякой мелочевки, в том числе контейнеры с домашними вещами, и приняв уже почти в два раза больше пассажиров, т.е. 508, наш турбоход снялся в рейс на Владивосток, как всегда под марш «Прощание Славянки». Пассажиропоток усилится в июне после окончания школьных занятий. С приходом во Владивосток судно было ошвартовано к причалу №20. Командование т/х «Советский Союз» было передано капитану дальнего плавания Б.Н. Гришину за один рабочий день, потому как Б.Н. Гришину было все досконально известно за время его многолетней службы на этом турбоходе.
При нормальном отношении к экипажам судов, как к равным участникам процесса транспортировки грузов, руководство должно поощрить или хотя бы сказать «спасибо» за экономию средств компании и, главное, за то, что остались в линейном расписании. Да и, собственно говоря, само руководство в то время было зажато жесткими тисками законов и подзаконных актов, распоряжений и инструкций Министерства морского флота СССР. Да и инструкциями и распоряжениями самого ДВГМП, которые издавались начальниками отделов и служб, дабы оградить себя от нареканий или наказаний, исходящих от высшего начальства в лестнице рангов.
Мало кого интересовали прибыль или финансовые потери. Главная забота состояла в том, чтобы оградить лично себя. А если не удавалось избежать явного нарушения инструкции, то классическим примером считалось найти стрелочника и так его ударить, чтобы он никогда не смог подняться, чтолибо сказать в свое оправдание или же совсем, уж не дай Бог сказать, что он в этом случае ни при чем или что его не было на
этом месте в указанное время.
Я получил предложение работать в «Совфрахт» в порту Хайфон, Вьетнам.
Все началось, казалось бы, с незначительного случая: были представлены мне на подпись акты на списание 5 тонн бензина, доставленного из Одессы для представительства в Дананге, якобы там же и израсходованного, хотя в представительстве Дананга имелась только одна автомашина «Волга» с 66-сильным дизелем «Пежо». В дополнение был еще акт на списание 12 автопокрышек, хотя все автомашины были новые, прошедшие всего около 500 километров. Видя мое замешательство, сказали: «Что вам стоит поставить свою подпись? И дело с концом!»
В ответ на такую наглость я отказался подписывать подобные бумаги, сказав, что я не хочу краснеть перед своими внуками за то, что оказался в одной компании с такими не совсем порядочными людьми, прекрасно понимая, что ребята все делают для кармана шефа, а не для себя. Все эти не совсем порядочные дела продолжались без моего участия. Подобная участь постигла очень большое количество автопокрышек, бензина и много другого. Внешне отношения среди представителей В/О «Совфрахт» сохранились хорошие, но я понял, что это добром не кончится.
Послом СССР в СРВ В.П. Чаплиным было издано распоряжение: за произошедшее ДТП и наезды на людей немедленно прекратить командировку и отправлять виновника в Союз. Во время моей работы в должности и.о. заместителя торгпреда Союза в СРВ выехали с группой в Дошон по случаю воскресного дня. На въезде на территорию Дошона «Вольво» резко бросило влево на довольно плотную группу вьетнамских пешеходов и велосипедистов. Я с большим трудом удержал рулевое колесо, остановил машину и осмотрел все колеса. Оказалось, что покрышка переднего левого колеса имела глубокие прорези ножом в нескольких местах покрышки. Колесо было спущено, пришлось произвести замену. Благо, что никто из вьетнамцев не пострадал. Хорошо, что я крепко удержал руль руками.
После проведенного в Дошон выходного дня все благополучно вернулись в Хайфон. Коекакие выводы для себя пришлось сделать. Это не могло быть случайностью.
После встречи с мэром города Хайфон по поводу выгрузки группы танков вместе с боеприпасами на терминале Чау Ве мэр города попросил меня остаться на пять минут. Он сообщил мне следующее: «До окончания вашей командировки осталось три месяца. Мы настоятельно рекомендуем вам не садиться за руль автомашины, во всех поездках использовать только шофера вьетнамца, который работает у вас в В/О «Совфрахт», и переводчика. Я понимаю ваш вопрос, но причину мы вам расскажем перед вашим отъездом из СРВ».
В понедельник утром было получено распоряжение торгпреда Рыбалко, что необходимо прибыть к 10:00 во вторник на совещание в посольство СССР. Учитывая то, что посол В.П. Чаплин непростительно относился на посольском дворе к автомашинам иностранного производства, я сказал переводчику, чтобы приготовили для поездки в Ханой почти новую бензиновую «Волгу» с пробегом всего 16 000 км. В шесть часов утра во вторник я, переводчик и шофер выехали из Хайфона. Через час у «Волги» отказали тормоза на спуске перед поворотом под железнодорожный мост. Все попытки привести тормоза в рабочее состояние были безрезультатными. При вскрытии главного тормозного бака оказалось, что он засыпан мусором. Нам повезло, что тормоза заклинило в заторможенном состоянии. Не дай бог,если бы заклинило в расторможенном состоянии.
Не было смысла охать и ахать, нужно было принимать все как есть и действовать по обстановке. Поэтому, оставив шофера и переводчика с «Волгой», я попросил переводчика остановить встречную машин, идущую в Хайфон, чтобы довезти меня до нашего дома: я планировал взять свою «Вольво» и еще успеть к началу совещания в посольстве. Всякие опоздания расценивались как недисциплинированность со всеми последствиями. «Вольво» пришлось оставить во дворе Торгпредства, а ребята доставили меня в посольство за пять минут до начала совещания. Это был уже не звоночек, а самый настоящий набатный звон. Хорошо, что за рулем был шофер вьетнамец к тому же многоопытный профессионал. И было на кого оставить автомашину в дороге.
Как выяснилось, мусор был засыпан в гараж «Совфрахт» в ночь на вторник, хотя гараж был закрыт на замок. Доступ во двор офиса был только через одно окно вицеконсула. Вероятно, рассчитывали, что я поеду один без шофера и переводчика. К тому же никто не мог знать о рекомендации мэра города Хайфон. Такую пакость могли сделать только черноморы...
|
|
</> |

 ТТГ норма у женщин: как подготовиться к анализу крови и избежать ошибок
ТТГ норма у женщин: как подготовиться к анализу крови и избежать ошибок 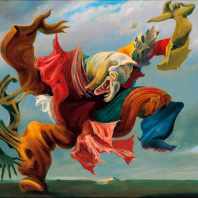 жЫвопИсь абстрактная
жЫвопИсь абстрактная  Месячник ушек и хвостиков. (9)/XI-2025
Месячник ушек и хвостиков. (9)/XI-2025  Вниманию всех родителей Москвы и Петербурга!
Вниманию всех родителей Москвы и Петербурга!  ПРАХ
ПРАХ 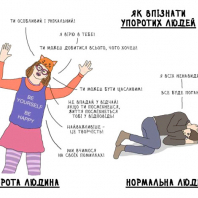 О фашизме и гуманизме 2025
О фашизме и гуманизме 2025  Картинки 5 ноября 2025 года
Картинки 5 ноября 2025 года  "Герои штурма Зимнего"
"Герои штурма Зимнего"  Опять бэбиситор
Опять бэбиситор 


