
Почему нам так необходимо зло?
 hyperboreus — 25.04.2020
Зло — а точнее, ощущение зла, непримиримость ко злу — кажется
базовой константой человеческого сознания, однако это не совсем
так. Бог, как всегда, в деталях. Некоторые цивилизации на
протяжении всей своей истории демонстрируют удивительную терпимость
ко злу, другие — наоборот, столь же замечательную нетерпимость.
Наиболее яркий пример первых — Индия, где зло всегда имело характер
a) иллюзии (майи), b) одного из элементов миропорядка (не
являющегося необходимым), c) одностороннего понимания, не
учитывающего все аспекты того или иного явления (доктрина
анэкантавады). Разными индийскими учениями делался акцент на
один или несколько из перечисленных принципов, но всегда со схожими
результатами. Так, ведийская религия видела зло лишь в искажении
ритуала, мудрецы упанишад объясняли его действием закона кармы, а
более поздний индуизм всё покрывал непостижимой игрой
(лилой) вездесущего Господа.
hyperboreus — 25.04.2020
Зло — а точнее, ощущение зла, непримиримость ко злу — кажется
базовой константой человеческого сознания, однако это не совсем
так. Бог, как всегда, в деталях. Некоторые цивилизации на
протяжении всей своей истории демонстрируют удивительную терпимость
ко злу, другие — наоборот, столь же замечательную нетерпимость.
Наиболее яркий пример первых — Индия, где зло всегда имело характер
a) иллюзии (майи), b) одного из элементов миропорядка (не
являющегося необходимым), c) одностороннего понимания, не
учитывающего все аспекты того или иного явления (доктрина
анэкантавады). Разными индийскими учениями делался акцент на
один или несколько из перечисленных принципов, но всегда со схожими
результатами. Так, ведийская религия видела зло лишь в искажении
ритуала, мудрецы упанишад объясняли его действием закона кармы, а
более поздний индуизм всё покрывал непостижимой игрой
(лилой) вездесущего Господа.
(Махакала, отсекающий неведение. Несмотря на зловещий вид, ко злу не имеет никакого отношения, скорее наоборот)
В этой связи интересно проследить, как общеиндийская нечувствительность ко злу меняла даже такую строгую моральную и экзистенциальную доктрину, как буддизм. Как известно, в буддизме первая «благородная истина» — это истина страдания. Страдание — несомненное зло, и оно настолько фундаментально (даже оргазмируя, ты на самом деле страдаешь), что ранний буддизм видел только одно спасение — нирвану как полное угасание какой-либо деятельности, выход за пределы всякого бытия. Казалось бы, найден сильнейший катализатор — «раздувай» страдание, и люди сломя голову помчатся в нирвану, ну или хотя бы для начала в сангху. Именно так поступали европейские религиозные экзистенциалисты (Паскаль, Кьеркегор, Шестов, Марсель), когда также открыли (скорее всего, независимо от буддистов) фундаментально страдающего человека. Но нет, Будда «зачем-то» заимствует теорию кармы, объясняющую страдание грехами прежних жизней, и тем ощутимо ослабевает его эффект прививкой общеиндийского фатализма. И это несмотря на то, что карма тут же вступает в жесточайший конфликт с принципиальной установкой буддистов на анатмаваду — онтологическое отсутствие того субъекта, который, собственно, и страдает. Получается, страдание есть, а страдающего нет — противоречие, на которое не замедлили торжествующе указать всевозможные критики буддизма — от древности до наших дней.
Дальше — больше. Поздним буддистам всё это экзистенциалистское упоение страданием уже попросту непонятно — они сдают первую благородную истину куда-то в начальные классы (где юные падаваны механически заучивают её наподобие «мама мыла Раму») и с немалой изобретательностью возвращаются к тому проверенному временем интеллектуальному оружию, с которым индийцы издавна встречали назойливую проблему зла и которое мы уже описали выше. В позднем буддизме и Будда ни в какую нирвану не уходил, а пребывал в ней всегда, при том что сансара от нирваны неотличима; и все мы изначально просветлены, а потому любое страдание — лишь кажущееся, и даже умирающий от голода младенец — глубоко внутри смеющийся будда; так что зло существует лишь на кончике ума невежественных людей. В таком виде буддизм проник и развился на Дальнем Востоке, плотно пропитав сознание китайцев и японцев, о чём всегда нужно помнить, затевая с ними столь дорогой сердцу любого европейца спор о причинах зла и страдании невинных.
Легко списать это положение дел на общую умиротворенность индийского характера. Мол, круглый год тепло, бананы под ноги падают — только нагибайся, конопля растёт в каждом дворе — как тут повально не стать хиппи? Но история опровергает это явное упрощение. Индийцы знали немало чрезвычайно губительных голодоморов, жертвы которых исчислялись миллионами человек; а регулярные вторжения чужеземцев в Индию привели к появлению целых воинственных народов и кланов (раджпутов, маратхов, сикхов), чьему мужеству позавидовали бы и самураи. Не раз в истории Индии случалось, что все мужчины осажденной крепости отправлялись в свой последний бой, тогда как за их спинами их женщины и дети всходили на общий костер (т. н. джаухар). Так что списывать всё на миролюбие и даже фатализм Востока не стоит, скорее тут нужно видеть действие древней и до сих пор влиятельной мировоззренческой парадигмы, суть которой состоит в уверенности в том, что истинным бытием обладает только единый Абсолют (Бог, Брахман, Будда), всё феноменальное же (видимый мир, страдания, зло) — не более чем мелкое волнение на море, и вовсе незаметное для того, кто погрузился уже на достаточную глубину.
(Джаухар женщин из раджпутского княжества Мевар, 1303 г.)
А что же наши добрые европейцы? И они когда-то разделяли эту уверенность, следы которой проступают в тёмных речениях досократиков и «чёрном бунте» гностиков, но всё изменилось с явлением на европейскую арену еврейского трансцендентного Бога. Этот (воистину злой, как считали гностики) Бог вырвал человека из своих райских объятий и поместил в сердцевину холодного, бездушного космоса, сотворённого из ничто и потому пребывающего всецело ничтожным. Даже крохотная искорка абсолютного божьего бытия в человеке угасла — остался только моральный долг — и вера в то, что он-таки приведёт к хоть какому-то спасению (как учили, «не по естеству, но по благодати»). Далее, в Новое время, закономерно угасла и эта вера (в традиционных обществах ежедневно подпитываемая чудесными божественными проявлениями, а в христианстве основанная исключительно на авторитете Писания и Предания — то есть попросту… книжек! А долго ли можно носиться даже с самой умной книжкой?). Мораль — это всё, с чем европейский человек остался в холодном и пустом расколдованном мире, — и надо ли удивляться, что она стала чуть ли не новым Богом?
Важно понять: это не обострённое чувство зла вызвало к жизни мощное моральное сознание европейца, а ровно наоборот: моральное (другого не предполагалось) послушание христианина породило в секуляризованном варианте радикализацию зла, впервые таким воспринятого. Даже еврейский Бог мог ещё бравировать злом до полной его неразличимости (вспомним «Книгу Иова», где Иегова в ответ на стенания мученика похваляется… бегемотами), но полное исчезновение из жизни европейского человечества измерения Абсолюта закономерно привело к дуализму: отныне только мораль и зло противостоят друг другу в космическом масштабе — как древние Ормузд и Ахриман, Индра и Вритра. С возвышением морали возвысилось и зло — и продолжает возвышаться. Весь социальный прогресс европейского человечества вполне укладывается в эту схему: борьба за права человека (затем женщин, геев, разных меньшинств), отказ от рабства, расизма, колониализма, распространение принципов демократии и либерализма, рост социальной защиты, наконец влиятельное нынче общественное мнение, пропитанное подчас чрезмерными требованиями толерантности и уважения. Сюда же и беспрецедентные меры против пандемии. Всё это направлено на по возможности максимальное искоренение страданий и зла в обществе, основано на этом требовании — и больше ни на чем!
При этом не удивительно, что европейская мораль не замечает (точнее, до недавнего времени не замечала) страдания прочих живых существ и природы как таковой. Ведь моральными субъектами, как повелось ещё с Ветхого Завета, признаются только люди — к ним и всё внимание. То, что на Востоке считалось первейшей добродетелью даже мирянина — непричинение вреда другим существам (ахимса), пробивает себе путь на Западе лишь в самое последнее время, да и то в формах или откровенно заимствованных, а потому довольно неестественных, либо попросту карикатурных, так как не имеет основания в парадигмальной матрице Запада. Конечно, в эпоху постмодерна эта матрица понемногу ломается и обретает новые очертания, но какие, трудно пока сказать. Точно не традиционно-восточные. Скорее, роль зла продолжит расти — а с нею и усилия человечества по его искоренению. Злом будут объявляться всё новые и новые области человеческого поведения и общежития, а «старое, респектабельное» зло получит столь зловещую оценку, что будет подвергаться остракизму куда более чудовищному, чем любые того зла последствия. Ведь нам очень нужно зло, чтобы быть моральными, а значит, быть вообще. Крестовый поход человечества против зла только разгорается…
|
|
</> |


 Транскрибация: как автоматизация процесса ускоряет работу с контентом и повышает производительность
Транскрибация: как автоматизация процесса ускоряет работу с контентом и повышает производительность 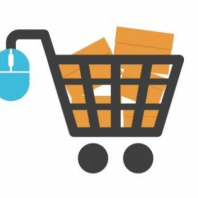 Как создать интернет-магазин самому бесплатно?
Как создать интернет-магазин самому бесплатно?  "Теперь, говорю, давай вспомним актеров, режиссера и вообще всех, кто
"Теперь, говорю, давай вспомним актеров, режиссера и вообще всех, кто  Погнали мигранты городских?
Погнали мигранты городских?  Первые официальные сатанинские обряды Ватикана.
Первые официальные сатанинские обряды Ватикана.  Ждут от нас рыбки котики от haniyan0891
Ждут от нас рыбки котики от haniyan0891  Ошибаться можно, врать нельзя — почему СР не поддержала новые нормы ОМС
Ошибаться можно, врать нельзя — почему СР не поддержала новые нормы ОМС  на раёне
на раёне  Отлив в Хихоне когда взошедшее солнце пробивается изза туч
Отлив в Хихоне когда взошедшее солнце пробивается изза туч 



