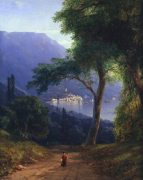Околонаука и восприятие новостей
 grizzlins — 18.09.2023
grizzlins — 18.09.2023
На днях вручили премию Breakthrough Prize (3 млн. долл, втрое
больше Нобелевской). Не, не мне. Хотя в одной номинации дали
награду за лечение муковисцидоза, а в другой — за противораковые
Т-САR клетки. Я работаю в отрасли (и в компаниях) где этими
проблемами вполне занимаются. Но дело в другом.
Среди других премию получил Александр Замолодчиков за работы в
области теории струн. Первой мыслью было «а как же кэнселинг»? Но
второй мыслью было: «А как же книжка Ли Смолина «Неприятности с
физикой. Взлёт теории струн, упадок науки и что за этим следует»?
Книжка написана в 2006-м, переведена на русский в 2007-м, перечитал
её в минувшие выходные.
Смысл книги таков, что за последние двадцать лет (на 2006-й год,
напомним!) ничего интересного в физике не произошло. В смысле,
очень интересного. Переворотного. До этого всегда происходило, а
теперь — не произошло. И причиной этого, мол, стало
гипертрофированное развитие Теории струн в ущерб иным областям
физики. Сам Смолин тож много сделал для Теории, но затем чуть
разочаровался. Дескать, премии дают, гранты дают, а выхлопа
нет.
Прошло ещё почти двадцать лет. Премии дают, гранты дают, а выхлопа
нет. Есть, но не в области, о которой писал Смолин и которой
занимается Замолодчиков — КВАнтовая теория поля и её совместимость
с Теорией струн. Точней, даже и выхлоп есть, но истеричной публике
неочевидный.

Позднее Ли Смолин в сборнике «Эта идея должна умереть» написал,
что должна умереть именно идея Большого Взрыва. Не как феномена, а
как начала всего. Якобы, наша Вселенная — одна из множества
множеств и её начало не было уникальным. Просто иные вселенные нам
недоступны, а наличная, данная в ощущениях, — доступна. При этом он
яро возражал против антропного принципа в любом изводе. Се цитата
ещё из «Неприятностей»: «Одна из проблем, которая с самого
начала мучает теорию, заключается в вопросе о соотношении между
реальностью и формализмом. Физики традиционно ожидают, что наука
должна давать оценку реальности такой, какой она была бы в наше
отсутствие. Физика должна быть больше, чем набор формул, которые
предсказывают, что мы будем наблюдать в эксперименте; она должна
давать картину того, какова реальность на самом деле. Мы являемся
случайными потомками древних приматов, которые появились в истории
мира лишь совсем недавно. Не может быть, что
реальность зависит от нашего существования.
Проблема отсутствия наблюдателей не может быть решена и путем
обращения к возможности существования чужих цивилизаций, так как
было время, когда мир существовал, но был слишком горячим и
плотным, чтобы существовал организованный разум».
Смолина превосходно троллил Леонард Сасскинд. Величина не меньшая.
Впрямую они дискутировали именно двадцать лет назад, а вкривую — по
сей день. В книжке «Космический ландшафт. Теория струн и иллюзия
разумного замысла Вселенной» (вышла году в 15-м) Сасскинд пишет:
«Антропный принцип оказывает на большинство физиков-теоретиков
такое же действие, как полный туристов джип на разъярённого
слона». Сасскинд против сильного антропного принципа, но не
против антропного принципа в принципе:)). Дискуссия сложненькая, но
доступная, рекомендую ознакомиться, кто ещё не.
Однако есть вещи ещё интереснее. Чтоб мог существовать антропный
принцип, нужен антроп. Сиречь — человек. Тут мы вернёмся совсем в
конец семидесятых-начало восьмидесятых. Тогда спорили два
Нобелевских лауреата по биологии: де Дюв, открывший мелкие
клеточные структуры и Моно, специалист по генетике. Де Дюв топил за
возникновение жизни, как необходимости. Точнее, статистической
необходимости: «Если где-то во Вселенной воспроизведены те же
условия, что имели место при возникновении жизни на Земле, следует
ожидать там возникновения жизни». Сейчас против такого
аргумента возражать легко. Например, красивый ответ можно прочесть
(внезапно!) на сайте «Азбука веры» в книге Валентина Велчева
«Внешний замысел. Заочная дискуссия со Стивеном Хокингом». Но это
сейчас легко. А когда де Дюв писал базовые статьи, Вселенная была
бесконечной и почти стационарной. Некоторая вероятностная
необходимость появления жизни прослеживалась.
Тем не менее, де Дюву уже тогда возражал Жак Моно, тож, напомним,
человек неплохо понимавший в биохимии и термодинамике: раз жизнь
(насколько нам известно) уникальна, нет необходимости объяснять её
появление. Случай — и всё! Дискуссию Нобелевских людей можно
прочесть в интернетах. Они, как франкофоны, сначала спорили на
французском, затем перешли на аглицкий, затем на… Хотя не. Но на
русский кое-что переведено. Актуально по сей день. Ибо в данном
аспекте особого прогресса в понимании тож нет.
Разумеется, Бога в свои построения ни один из помянутых учёных не
допускал и не допускает. Даже признавая Антропный принцип — с
Нового времени, с XVII века, Бога упоминать в научных дискуссиях
было нельзя. Теперь, после работ Квентина Мейясу, особенно — после
«После конечности»:)), — можно, а было нельзя. Интересно, как всё
обернётся.
Но паки: существуют вот такие важные дискуссии, важные моменты,
важное всё. А мы, прочтя новость, думаем про культуру отмены, про
попс-психологию, про как звёзды встали, про
блогеров-рэперов-тиктокеров и такое. Воистину, мы круты и необычны,
как биологический вид и субпопуляция!
|
|
</> |

 Что такое бюро кредитных историй и как оно работает?
Что такое бюро кредитных историй и как оно работает?  Фото с вчерашней прогулки...
Фото с вчерашней прогулки...  Елоховский собор
Елоховский собор  О недоговороспособности
О недоговороспособности  Солнечная форзиция
Солнечная форзиция  Я не знаю, кто это, но водитель у него - молодой Корлеоне
Я не знаю, кто это, но водитель у него - молодой Корлеоне  ..Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней.
..Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней.  Утреннее
Утреннее  Случайное фото
Случайное фото